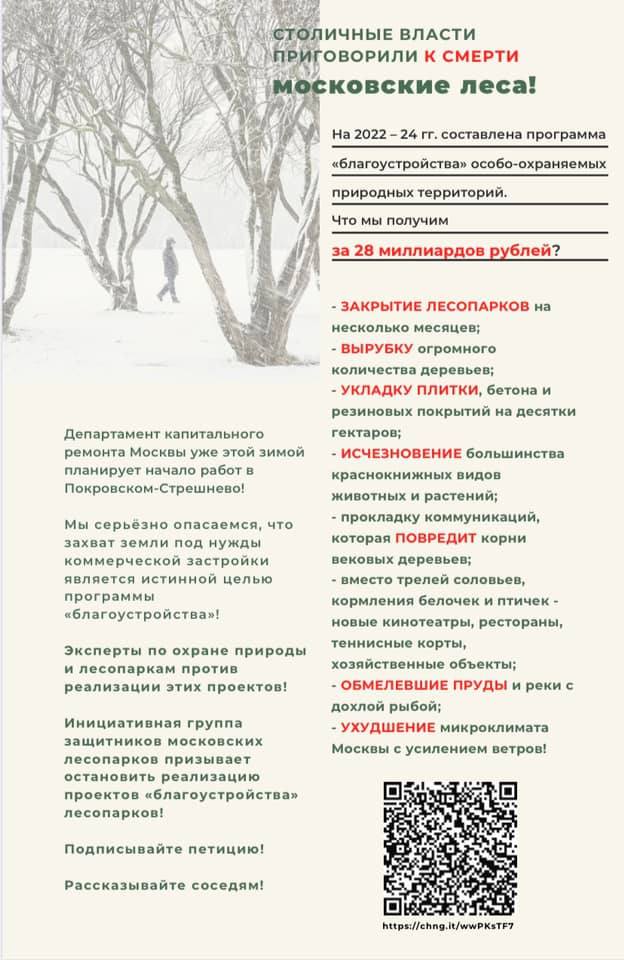В. Н. Горлов1 «ЛЕСОПАРКОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС МОСКВЫ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ»
Лесопарковый защитный пояс Москвы (далее ЛПЗП) – важное звено в градостроительной концепции развития столицы. Являясь резервуаром чистого воздуха, он обеспечивал улучшение городской среды и выполнял важную архитектурно-художественную задачу, органически связывая городской и пригородный ландшафт. В проектах и литературе применяется термин «лесопарковый пояс», который, однако, не выражает действительного содержания зелёного окружения городов, состоящего не столько из лесопарков, сколько из различных озеленённых территорий – полей, садов, лугов.
Создание лесопаркового защитного пояса вокруг Москвы впервые предусматривалось Генеральным планом реконструкции Москвы 1935 г. (далее Генплан). По этому плану город должны были окружить на ширину до 10 км малозастроенные, богато озеленённые и обводнённые территории2. В таком виде лесопарковый пояс вместе с ближайшими лесами области и насаждениями города должен был формировать целостную, разветвленную систему озеленения столицы. На долю лесопаркового пояса в этой системе приходилась оздоровляющая функция, связанная с улучшением микроклимата и возможностей массового загородного отдыха. Зеленый пояс должен был быть наиболее тщательно оберегаемой частью пригородной зоны. Он должен был ограничить территориальные расширения городской застройки путём закрепления границ города со строгим запрещением дальнейшего строительства в пределах зелёного пояса.
В первом Генплане социалистической Москвы удалось решить многие санитарно-гигиенические и экологические проблемы. В центре внимания проектировщиков, разработавших к 1932 г. схемы реконструкции и перспективного развития Москвы, находилась концепция экологически оптимального города с высоким уровнем озеленения и благоустройства, четким функциональным отделением жилых районов от промышленности и транспорта. Одним из главных экологических в своей основе решений Генплана стало создание кольца парков вокруг центра, включившего Воробьевы горы, Фили, Серебряный бор, Покровское, Тимирязево, Останкино, Сокольники, Измайлово, Кусково3. Полученная при этом система озеленения города послужила основой для последующего формирования зеленых клиньев в Генеральном плане развития Москвы 1971 г. На базе парковых массивов Москвы 1935 г., органично связанных с лесами и рекреационными зонами, был сформирован лесопарковый пояс города.
Лесопарковый защитный пояс Москвы, называвшийся в истории советского градостроительства «заповедным зелёным кольцом, лесной оградительной зоной, зелёным поясом», – воплощение идеи, выношенной историческим опытом градостроения, провозглашенной социалистами- утопистами XVIII–XIX вв., сформированной архитекторами в конце XIX в. и законодательно реализованной советским государством. В 1935 г. лесопарковый защитный пояс Москвы стал неотъемлемой частью планировочной структуры города. Он насчитывал сначала 168,5 тыс. га, а позднее – 149 тыс. га4. Затем тысячи городов страны имели лесопарковые защитные пояса. Лесопарковый пояс Москвы был первым в этом ряду.
Что представляла собой территория, на которой мыслился этот пояс 1935 года? Собственно лесопарки (вернее, лесные массивы, ибо в лесопарки им ещё предстояло превратиться) составляли менее трети. В составе пояса было шесть районов, три города – Кунцево, Люблино, Лосиноостровск, 15 рабочих и 27 дачных посёлков. Проживало на территории ЛПЗП не более 270 тыс. человек. Плотность его заселения не превышала 4,5 человека на 1 га. Сельскохозяйственные территории составляли половину всего лесопаркового пояса. Застроен он был чуть более, чем на одну десятую1.
Что предлагал проект? Образно выражаясь, ожерелье из лесопарков и городов-садов. Они планировались как в существовавших посёлках и городах, так и во вновь созданных (например, город-сад «Беседы» южнее Орехово-Борисова, не реализованный впоследствии2). Важно отметить, что зеленый пояс был намечен за зоной резервного развития Москвы, что дало возможность сохранять его границы до конца 1950-х годов. Осуществление этих идей сочеталось с такими крупными народнохозяйственными мероприятиями, как, например, строительство канала Москва-Волга. Канал и его водохранилища помимо обводнения, улучшения судоходства и увеличения мощности водопровода столицы существенно преобразили и обогатили северную часть лесопаркового пояса.
Следует отметить, что предложения по озеленению Москвы до утверждения плана в 1935 г. носили отголоски представлений о городе-саде. При составлении плана защитный пояс намечался в радиусе 50 км. В нем должны были располагаться огородные, плодово-ягодные, пчеловодческие и другие хозяйства, питомники, парники, показательные поля. Зеленые поля предполагалось обсадить техническими культурами (кедром, крыжовником, амурским виноградом и т.д.)3.
В 1935 г. радиус был утвержден в размере 10 км. В нем должны были размещаться лесопарки Москвы так, чтобы каждый район города обслуживался соответствующим загородным парком. Площади парков намечались до 15 тыс. га и предполагались в часе езды от города. Были запроектированы пять загородных парков: Клязьминский, Звенигородский, Пахорский, у Михайловского водоема и в восточном секторе у шоссе Энтузиастов. В лесопарковый пояс включались: на востоке – Лосиный остров, Измайловский зверинец; на юго-западе – Теплый стан, на западе – Рублевский лес и Серебряный бор, на севере – Бескудниковский и Медведковский леса. В лесозащитном поясе проектировались также заповедники. Город и периферийные парки должны были быть связаны специальными парковыми дорогами с безрельсовым транспортом4.
В лесопарковом защитном поясе за счет использования существующих и создания новых лесных массивов, водных поверхностей и открытых сельскохозяйственных ландшафтов должна была формироваться непрерывная цепь озелененных пространств вокруг Москвы. Наиболее ценными в природном отношении являлись леса и лесопарки, сельскохозяйственные участки, водные поверхности и территории учреждений отдыха. Зелень города становится как бы проводником живительных сил загородных лесов. Образно говоря, Москва рассечена зелеными клиньями. Свое начало они берут в лесопарковом защитном поясе и затем как бы стекают к центру города уже в виде садов, бульваров, скверов, островков зелени. Самая обильная зелень в городе как бы нанизана на крупные радиальные автомагистрали. Возьмем, к примеру, Ленинский или Кутузовский проспекты. Зеленые клинья совпадали с ними, во многом повторяли их трассы.
Ни одна из крупнейших столиц мира не имела такого ценного природного окружения, как Москва. На территории её лесопаркового пояса сохранилось редкое разнообразие растительности. Фауна в некоторых частях лесопаркового пояса насчитывала около 200 видов5. При этом особый колорит в ландшафты вносили памятники архитектуры, которые наряду с памятниками археологии, Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны, местами, связанными с жизнью и деятельностью выдающихся людей, отражали многовековую историю Подмосковья.
Война вызвала ускоренный промышленный рост посёлков, которые должны были стать городами-садами. Здесь разместились новые объекты, мастерские переоборудовались в заводы. В 1943 г. было принято единое категорирование лесов по всей стране. На режим зелёной зоны Москвы была переведена часть лесов Московской области6.
В послевоенный период для восстановления подмосковных лесов, для предупреждения возможных негативных последствий в связи с бурным строительством было решено восстановить леса 50-километровой зелёной зоны Москвы. Предусматривалось создание новых массивов на площадях, не входящих в состав Гослесфонда, вокруг крупных промышленных и районных центров. Проекты городов, окружавших Москву 1950-х гг. (Видное, Лыткарино, Красногорск), мыслились в согласии с природой7. В лесопарковом поясе развивались различные объекты отдыха, появились благоустроенные автомобильные дороги, возникли сельскохозяйственные научные учреждения. Но, опережая развитие необходимых элементов лесопаркового пояса и прилегающих районов области (насаждения, водоёмы, объекты отдыха), росли города и посёлки. Это происходило в результате размещения новых предприятий, которые стимулировали увеличение численности населения.
1940–1950 гг. обогатили опыт реализации лесопаркового пояса. Были созданы благоустроенные лесопарки в Мытищинском, Красногорском, Ленинском районе, сформированы комплексы отдыха, восстановлены леса на вырубках военного времени – более 6 тыс. га8.
Осуществлялись крупные мероприятия по защите зеленых насаждений. Однако все еще остро стояла проблема не только сохранения лесов ЛПЗП, но и значительного улучшения, приспособления их для массового отдыха. Культурно-бытовое и коммунальное обслуживание развивалось исходя из поставленной задачи по организации единой системы обслуживания населения Москвы и лесопаркового пояса. Особое место в организации кратковременного отдыха населения Москвы должен был занять лесопарковый защитный пояс, окружающий столицу. Основную часть лесопарковой зоны составляли территории, предназначенные для отдыха. Они находились на берегах существующих и проектируемых водоемов, в живописных участках лесных массивов и открытых пространств. Согласно общей системе организации отдыха населения, принятой в генеральном плане, лесопарковый пояс предназначался для загородного кратковременного отдыха в течение всех сезонов. По объему рекреационной деятельности Подмосковье превосходило крупнейшие курортные районы страны. Была развита сеть пансионатов, домов отдыха, санаториев, турбаз. По насыщенности сетью пионерских лагерей Подмосковье не имело себе равных в стране. Широкое развитие получил зимний загородный отдых. К этому следует добавить огромный рекреационный потенциал самой Москвы.
Годы реализации первого генерального плана Москвы позволили установить ещё одну функцию лесопаркового пояса. Незастроенные территории вокруг Москвы нужны были не только для наилучшего проявления действий оздоровляющих факторов, но и в качестве своеобразного ограничителя, предотвращающего слияния столицы с ближайшими городами области. Ограничительная функция представлялась важнейшей и решающей как по существу, так и для определения величины и конфигурации лесопаркового пояса. Дело в том, что потребности в местах массового загородного отдыха в 2-3 раза превосходили всю площадь лесопаркового пояса. Поэтому ориентировка на территории отдыха означала бы включение в лесопарковый пояс обширных земель, удалённых от Москвы на десятки километров, – практически всей Московской области. Лесопарковый пояс должен был быть именно поясом, поскольку при условии окружения города насаждениями создавались предпосылки формирования единой и непрерывной системы озеленения.
Многие вопросы озелененных территорий решались на самом высоком уровне – Правительства СССР. Так, в 1950 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О мероприятиях по восстановлению лесов в 50-километровой зоне г. Москвы». Все леса были объявлены лесами первой категории и включены в состав Гослесфонда9. Особое внимание было обращено на леса и лесопарки лесопаркового защитного пояса Москвы. Соответствующее постановление Совета Министров СССР и указы Президиума Верховного Совета РСФСР выходили в 1960–1961 и 1983–1984 гг. при изменении границ Москвы и увеличении её территории за счет земель лесопаркового защитного пояса, административно подчиненных региональным властям Московской области.
В пригородном районе Москвы выделялась также зона, зарезервированная по Генеральному плану реконструкции Москвы, утвержденному в 1935 г., для расширения города площадью около 34 тыс. га в радиусе 15–17 км от центра Москвы. Эта и другие территории, находящиеся в пределах МКАД, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 августа 1960 г. были включены в черту города. На прирезанной территории находилось пять городов (Тушино, Перово, Люблино, Бабушкин, Кунцево), ряд рабочих поселков и много сел10. Площадь города составила 878,7 кв. км. Население Москвы увеличилось почти на 1 млн. человек11.
В 1960 г. был принят «Закон об охране природы в РСФСР», где лесопарковые пояса городов определялись как объекты природы, подлежащие охране.
Причем охране подлежал весь комплекс природных условий. 18 августа этого же года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР территория лесопаркового защитного пояса была передана в административно-хозяйственное подчинение Мосгорисполкома. Были установлены новые границы ЛПЗП – 172,5 тыс. га за МКАД, включившие 85,5 тыс. га городских земель. Указ от 18 августа 1960 г. постановил образовать на территории лесопаркового защитного пояса города Москвы следующие районы: Балашихинский, Красногорский, Люберецкий, Мытищинский и Ульяновский, подчинив районные Советы депутатов трудящихся этих районов Московскому городскому Совету депутатов трудящихся. В ЛПЗП вошли северный комплекс водохранилищ – Клязьминского, Учинского, Пестовского, Пяловского в системе канала имени Москвы, территории вдоль рек Москвы и Пехорки12.
Передаваемый в административное подчинение Мосгорисполкома лесопарковый пояс изобиловал лесными массивами и водоемами и был для столицы её «зелёными лёгкими». Лесопарковый пояс, шириной примерно 10–12 км, был выделен в качестве резервуара чистого воздуха для Москвы и места массового отдыха москвичей. До 1960 г. лесопарковый пояс находился в двойном подчинении – Мособлисполкома и Моссовета. Посчитали, что это осложняло руководство зелёной зоной, отрицательно влияло на её благоустройство13. В результате в лесопарковой полосе стало увеличиваться количество предприятий, были обнаружены случаи загрязнения. Однако через год подчиненность ЛПЗП перешла к Мособлисполкому.
В 1960 г. на территории ЛПЗП находилось девять городов (Мытищи, Балашиха, Реутов, Люберцы, Лыткарино, Одинцово, Красногорск, Химки, Долгопрудный), много рабочих и дачных поселков и свыше 600 мелких населенных мест. Население этого пояса (включая и сельское) составляло более 20% от численности населения Москвы (в границах 1959 г.). 70% населения лесопаркового пояса проживало в городах. Около половины самодеятельного населения городов и поселков работало в Москве. Плотность населения в лесопарковом поясе была около 520 человек на 1 кв. км.14
Была поставлена задача постепенного освобождения зеленого пояса от имеющихся в нём малоценных строений, мелких предприятий, складов и т.п. В основном его надо было использовать для организации благоустроенных лесопарков, зон отдыха, пансионатов, пляжей и т.п. Включение в северную часть защитного пояса системы водохранилищ канала им. Москвы значительно расширило возможности развития массового отдыха на воде. Предстояло создание искусственных озёр и в других секторах лесопаркового пояса, в частности в южном и юго-западном. К сожалению, при проектировании генеральных планов развития городов пригородной зоны Москвы не рассматривали вопросы возможности значительного сокращения изъятия сельскохозяйственных земель, расположенных в лесопарковом поясе, за счёт повышения интенсивности использования территорий существующих городов и других населенных пунктов лесопаркового защитного пояса.
В 1970 г. ЛПЗП включал 11 городов, где проживало более 1 млн. человек15. Градообразующие предприятия городов ЛПЗП относились к важнейшим отраслям народного хозяйства. Учитывая сложность и противоречивость развития лесопаркового пояса, Генеральный план развития Москвы 1971 г. предусматривал расширение лесопаркового пояса примерно до 275 тыс. га16, поскольку он на некоторых участках был расчленён сплошными лентами застройки и не представлял собой непрерывной системы зелёных массивов, необходимой для города. Для восстановления непрерывности лесопаркового пояса в его состав были включены прилегающие свободные от застройки территории области, пригодные по своим природным качествам для создания зон отдыха. Запрещалось новое производственное строительство, подтверждалось стремление к стабилизации численности проживающего населения. Территориальный рост городов и поселков, расположенных на территории ЛПЗП, строго ограничивался, число существующих населённых пунктов значительно сокращалось за счёт их укрупнения.
При разработке Генерального плана Москвы 1971 г. в ЛПЗП был запроектирован целый ряд природных и историко-культурных заповедников и заказников – Государственный исторический заповедник «Горки Ленинские» с охранной зоной (создан в 1972 г., общая площадь более 9,5 тыс. га), Государственный природный национальный парк «Лосиный остров», комплексные природные и историко-культурные заказники «Верхняя Москва-река», «Нижняя Москва — река», «Лермонтовские места»17. На основе глубокой всесторонней оценки природного комплекса, его взаимосвязанных компонентов, а также памятников истории и культуры на территории ЛПЗП была определена неоспоримая ценность отдельных ландшафтов.
В том, что на территории России первым национальным парком стал «Лосиный остров», свою роль сыграла не только природа этого удивительного лесного массива, но и его особое место в отечественной истории. История «Лосиного острова» восходила к временам Ивана Грозного – это были царские охотничьи угодья, затем «Государева заповедная роща» и, наконец, в XVII в. он был причислен к заповедным лесам. «Лосиный остров» был мощным зелёным клином на территории 11 тыс. га, начинающийся в лесах области и проникающий глубоко в город до парка «Сокольники»18. Именно здесь росла известная «Алексеевская роща».
«Лосиный остров», расположенный в северно-восточной части Москвы и ЛПЗП, выполнял важное средозащитное, санитарно-гигиеническое и оздоровительное воздействие на город. Это было началом более дифференцированного подхода к охране территорий внутри лесопаркового пояса, ставших позднее опорными звеньями всей системы особо охраняемых территорий. Кроме того, Лосиный остров можно назвать уникальным объектом природы, так как, несмотря на сложную экологическую ситуацию (с трех сторон к парку подступили многоэтажные жилые кварталы города, промышленные зоны), он отличался высокой степенью сохранности природных экосистем. Здесь были представлены практически все лесные формации, свойственные Подмосковью. В окружении лесов в пойме реки Яузы располагался крупный водно-болотный комплекс. «Лосиный остров» по праву может считаться музеем под открытым небом. После Великой Октябрьской революции в 1919 г. Лосиноостровская дача вошла в число заповедников, где, несмотря на тягчайший топливный кризис, были запрещены дровозаготовки19.
Однако, несмотря на установленную правительственным постановлением ценность территории, продолжалось уничтожение зеленого массива и сокращение его площади вследствие таких факторов, как отвод участков под строительство различных предприятий, использование территорий не по назначению, вредное воздействие со стороны объектов, расположенных в парке либо на примыкающих к нему территориях. За 50-60-е гг. лесопарковый защитный пояс был «разорван» в нескольких местах (особенно в секторах северо-восток – восток – юг) плотно урбанизированными полосами вдоль вылетных транспортных коммуникаций. Лесопарковые территории за этот период экологически ослабли.
В 1970-е гг. на территории лесопаркового пояса было расположено семь административных районов – Ленинский, Одинцовский, Красногорский, Мытищинский, Балашихинский и Химкинский. Шесть из одиннадцати городов ЛПЗП являлись центрами административных районов20. Год от года возрастала роль прилегающих к Москве городов ЛПЗП как ближайших подступов к столице и её резервных территорий. Предусматривалось улучшение архитектурного облика городов лесозащитного пояса, превращение их в города- парки, города-сады. В этих городах должны были быть решены на высоком современном уровне социальные, архитектурно-художественные и градостроительные проблемы.
Институтом «Моспроект-3» совместно с научно-исследовательским и проектным институтом генплана были разработаны генеральные планы всех городов ЛПЗП, а для города Красногорска также и проект детальной планировки. Районными мастерскими института «Моспроект-3» были выполнены проекты детальных планировок застройки центров и основных жилых районов всех городов ЛПЗП21, отличительная черта планировочной структуры большинства которых в том, что они были обильно насыщены зелеными массивами – парками, садами, бульварами, скверами.
Свободные озелененные пространства лесопаркового пояса как бы вливались в ткань города, в его центральную часть, растекались по жилым кварталам и микрорайонам, переплетаясь с внутридворовыми зелеными насаждениями и органически связывая городскую среду с окружающим природным ландшафтом. Проектируемые зеленые насаждения дополняли существующие, и создавалась единая система зелени, объединяющая все районы города. Таковы были города Одинцово, Видное, Солнцево, Долгопрудный, Красногорск, Балашиха.
Основную часть лесопарковой зоны составляли районы отдыха, которые образовывались на базе водоемов, лесных массивов и открытых пространств. Они являлись головными участками широкой системы озеленения и отдыха, выходящей за пределы лесопаркового пояса. Возрастание социально- экономической роли рекреационной сферы было связано с целым рядом обстоятельств. Прежде всего, это высокий социальный ранг и масштаб явления – необходимо было организовать отдых миллионам людей, населяющих столицу. Напряженный ритм Москвы, накапливающиеся психоэмоциональные перегрузки, нарастающая гиподинамия и другие последствия городского образа жизни вызывали ухудшение здоровья и рост заболеваемости. В Москве в среднем ежедневно 260 тыс. человек не выходило на работу в связи с бюллетенями22. Чтобы компенсировать эти негативные явления необходимо было опережающее развитие рекреационной сферы. Её эффективное функционирование было необходимым условием расширенного воспроизводства рабочей силы.
В 1970–1980 гг. лесопарковому защитному поясу в общей структуре Московской области отводилась в основном санитарно-гигиеническая функция по оздоровлению воздушного бассейна Москвы. Внешний пояс пригородной зоны за границами ЛПЗП должен был использоваться для развития московского городского хозяйства. Города и поселки ЛПЗП в условиях стремительного развития московского народнохозяйственного комплекса стали неотъемлемой частью в планировочной структуре города. Это не могло не сказаться на состоянии природных условий. В ряде случаев оно было неудовлетворительным. Значительно снизился и эстетический результат: многоэтажная застройка «сократила» пространства, уменьшила контраст между городом и его окружением.
Эти и другие противоречия в реализации ЛПЗП Москвы произошли в связи с его более чем скромной величиной, почти не изменявшейся с 1935 г., тогда как Москва в три с лишним раза увеличила свои территории. Поэтому территория ЛПЗП почти совпадала с зоной роста Москвы, отсюда – неизбежные преобразования. К сожалению, город проектировали те, кто не влиял на причину его стихийного роста, а те, кто на этот процесс влиял, не беспокоились о судьбе города как об особом, стоящем на несравнимом ни с чем уровне, объекте. Такова реальность нынешнего положения. Чрезмерный рост градообразующей базы Москвы оказался пагубным для города, превращающегося постепенно в неуправляемый механизм.
Все действовавшие до сих пор Генеральные планы развития Москвы реализовывались с большими перекосами. Население обгоняло предусмотренный рост почти вдвое, за ним стремительно неслось жилищное строительство, расширялась в связи с этим территория города, выплёскиваясь за естественные рубежи. Ежегодный прирост населения в 1970-е гг. составил более 100 тыс. человек в год, из которых естественный прирост – лишь 15-20 тыс. человек23. Последствия разбухания города были тяжелы, ибо требовали усиленного наращивания жилищного фонда, усложняли транспортные проблемы, снабжение водой, энергией, питанием и др. К сожалению, не найдены были иные пути решения жилищной проблемы, чем продолжить наращивание городских образований.
С 1980-х годов МКАД на некоторых участках перестала выполнять функцию «барьера», преграды для разрастания города. Началось интенсивное освоение прилегающих к МКАД внешних территорий. В связи с этим вызывало острое беспокойство бесперспективная тенденция дальнейшего присоединения к Москве земель лесопаркового защитного пояса. Город не мог бесконечно расти в размерах своей территории и численности населения. Освоение резервных территорий за МКАД предельно растянуло коммуникации, особенно транспортные. Тем не менее, нельзя было рассчитывать на то, что жителей дальних районов можно будет связать с Москвой перспективными скоростными видами транспорта, ибо территориальный рост города опережал развитие и внедрение новых технических средств. Следуя привычным путём механического наращивания всех элементов городской среды, можно превратить Москву совсем в неуправляемый, неудобный, экологически вредный конгломерат.
В 1935 г. произошло событие огромной градостроительной важности – был создан лесопарковый защитный пояс Москвы. Но нельзя забывать, что он был создан для Москвы 1935 г. Концепция ограничения роста Москвы выполнялась формально. Так, из запланированных первым Генеральным планом (1935 г.) к выводу за пределы Москвы более 500 вредных в санитарно- гигиеническом отношении мелких и ветхих предприятий оставили столицу считанные единицы. Из намеченных к выводу генпланом 1971 г. более 300 экологически вредных и непрофильных объектов покинули город лишь полтора десятка24. Зато в этот же период были построены сотни предприятий, значительная часть которых могла быть прописана в любом городе. Следствием явился бурный рост населения, главным образом за счет «лимитчиков». Все, что хотело промышленное лобби в Москве и Подмосковье, строилось почти беспрепятственно. Только в 1960-е гг. в пределах лесопаркового защитного пояса Москвы в «порядке исключения» было размещено более 500 новых промышленных предприятий25. Естественно, что любые генпланы столицы были обречены на неудачу в таких условиях. Была принята мифологема единого народнохозяйственного комплекса Москвы и области, а её отражением стали отторжения областных земель в пользу столицы (какая разница, если комплекс единый!).
В период с 1984 г. по 1990 г. были включены в границы Москвы территории ЛПЗП, расположенные за МКАД: Солнцево, Бутово, Новоподрезково, Митино, Северный, Косино-Жулебино. Москва увеличила свою территорию более чем на 10 тыс. га26.
Когда Москва вышла за МКАД, её нельзя было рассматривать изолированно от 11 городов лесопаркового защитного пояса, плотно окружающих столицу. Это развитые поселения с крупной промышленностью, создающей дополнительные экологические трудности. И без того узкий лесопарковый пояс терял свое назначение защитного. Вопрос оздоровления Москвы и городов ЛПЗП в настоящее время является острейшим. Москва столкнулась с целым рядом экологических проблем. Экстенсивное развитие города способствовало ухудшению экологической ситуации. Утрачивались резервируемые под озеленение и общественные центры свободные территории, сокращались площади «зеленых клиньев», нарушалась целостность лесопаркового защитного пояса. На сегодняшний день почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух ЛПЗП сильно загрязнены, уничтожаются лесные массивы, идет деградация природных систем. С начала 1991 г. из-за стремительного освоения ЛПЗП утратились его природовосстановительная и рекреационная функция для Московского региона. В градостроительном законодательстве Московской области понятие «Лесопарковый защитный пояс Москвы» утрачено.
Многие тысячи предприятий этого грандиозного урбанизированного пятна, распластавшегося на территории 50 км на 40 км, образовали над Москвой такой вредоносный купол, от которого необходимо избавляться всеми возможными способами. И наиболее реальный из них – перебазирование с одновременным их обновлением в города-спутники филиалов крупных московских предприятий. Москва «расползается» равномерно во все стороны, наступая не только на свои реликвии, но и на свои «легкие» — природу. Московское радио регулярно сообщает о концентрации вредных веществ в воздухе. А что же будет, когда окажутся застроенными ближние и дальние, пока ещё дающие живительный кислород, земли? Не пора ли от иллюзий перейти к трезвому осознанию реальной ситуации?
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВ ПОДМОСКОВЬЯ
Савватеева О.А. к.б.н., доц.; Горячева Я.А., студент 4 курса
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Университет «Дубна», Дубна, Московская обл., Россия
источник статьи
ECOLOGICAL PROBLEMS OF MOSCOW REGION FOREST
Savvateeva O.A., Goryacheva Y.A., Dubna State University, Dubna, Moscow region, Russia
Лес является одной из главных составляющих благоприятной окружающей среды для населения любого региона. Леса способствуют очищению воздуха от пыли и обогащают его кислородом, влияют на формирование климата, круговорот воды в природе и т.д.
Общая площадь лесов Московской области, по данным государственного лесного реестра, по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 2104,1 тыс. га или 47,4% от общей земельной площади области. Лесистость области составляет 42,8 %. Большая часть лесов области расположена в лесной зоне, наименьшая часть (на юге области) – в лесостепной зоне. Крупные лесные массивы сохранились только в западных и восточных районах Подмосковья. Общий запас древесины на корню составляет 366,3 куб. м. На севере Подмосковья – в пределах Верхневолжской зандрово-аллювиальной равнины – преобладают берёзово-осиновые и еловые леса. В западной части на территории Смоленско-Московской возвышенности преобладающими древесными породами являются ель с участием сосны и лиственницы. Наиболее характерны берёзово-осиново-еловые, еловые, сосново-еловые леса. В Мещерской низменности широко распространены сосновые леса с примесью ели и широколиственных пород. В пределах Москворецко-Окской равнины встречаются небольшие массивы берёзово-осиновых, осиново-берёзовых и широколиственных лесов. На юге области на Заокском плато остались небольшие массивы берёзовых и дубовых лесов. Все леса 1 группы, возможные для эксплуатации, – 698,6 тыс. га. [3, 5].
Что касается возрастной структуры, то основную часть лесопокрытой площади занимают средневозрастные насаждения (39%), молодняки составляют 26%, приспевающие — 26%, спелые и перестойные – 9%. Снижение объемов пользования древесиной, исключение из главного пользования 50% лесных земель запретных категорий защитности (лесопарковая хозчасть и др.) и отсутствие в области мощностей по переработке низкокачественной мягколистной древесины приводят к нерациональному использованию лесных ресурсов, захламлённости лесов, снижению их эстетической ценности, к замедлению темпов улучшения качественного состава лесного фонда. В зонах импактных загрязнений находится около 125 тыс. га лесов Московской области [5].
На сегодняшний день состояние большей части лесов (особенно городских) критическое, площади лесных насаждений снижаются. Причинами гибели лесов являются:
- высокая рекреационная нагрузка,
- негативное воздействие автотранспорта,
- вырубка лесных участков под застройку,
- пожары,
- насекомые-вредители и древесные болезни.
Из-за высокой концентрации населения леса Подмосковья пользуются повышенным спросом и испытывают чрезмерную рекреационную нагрузку. По состоянию на 01.01.2015 фактическая площадь лесов, переданных для использования в рекреационных целях, составляет 5 445,5 га [3]. Так, по анализам космических снимков многих участков леса в городской черте Подмосковья вся территория городских лесов прорезана густой тропиночной сетью, занимающей от 5 % территории, что говорит о высокой вытоптанности и уплотнённости почвенного покрова не менее чем на 10 % территории [2]. Выделяются участки, вытоптанные полностью, без возможности восстановления.
Негативное воздействие на состояние лесных насаждений Московской области оказывает автомобильный транспорт: вдоль автомагистралей токсичные вещества от выхлопных газов через атмосферный воздух и вторичного загрязнение почвенного покрова воздействуют на состояние деревьев, вследствие чего на сегодняшний день большие участки придорожного леса находятся в неудовлетворительном состоянии.
Наибольшему антропогенному воздействию подвержены леса центральной части Подмосковья, располагающиеся в пределах «Малого московского кольца». Территории бывшего лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) г. Москвы постепенно разрушаются и деградируют. Лесные насаждения вблизи населенного пункта подвержены самохватам под строительство незаконных дачных участков и металлических гаражей. Площадь только выявленной застройки лесных участков составила 5 тыс. га – 0,1% от площади Московской области и 0,6% от площади районов Москвы за МКАД, а в ЛПЗП – 8 тыс. га (4,9%). По доле застроенных лесных участков лидирует Одинцовский район (1,4% от площади района), за ним следует Ленинский район (0,8%) [1, 8] .
Площадь рубок главного пользования в Московской области составляет около 1‒5 тыс. га. Далеко не на всех участках, где это необходимо, ведется лесовосстановление (рис. 1). Снижение показателя лесистости и повышение раздробленности лесных массивов в последние годы делает лесные экосистемы все менее устойчивыми [2].
Объемы обновительных рубок сокращаются, что приводит к избытку спелых и перестойных древостоев. Площади ежегодно погибающих древостоев достигают тысячи га, накопление мертвой древесины резко повышает пожарную опасность в лесах, перестойные древостои ведут к распространению вредителей и болезней леса.
 Рисунок 1. Карта санитарных рубок 2014 г. и лесовосстановления 2015 г. [6]
Рисунок 1. Карта санитарных рубок 2014 г. и лесовосстановления 2015 г. [6]
Вся территория Московской области отнесена к сильной степени лесопатологической угрозы в связи с высокой антропогенной нагрузкой и хозяйственной ценностью. Лесозащитные районы выделяются с учетом ландшафтного и лесорастительного деления на основании однородности лесохозяйственных и лесорастительных условий в пределах зон лесопатологической угрозы. Выделено 7 таких районов: Яхромский, Ламский, Верхне- Москворецкий, Мещерский, Окско-Москворецкий, Заокский, Центральный [4].
Среди наиболее распространенных болезней древесных растений Подмосковья можно выделить корневую губку (Hetervbasidion annosum) – базидиальный гриб, афиллофороидный гименомицет. Гриб поражает многие хвойные породы и, в более редких случаях, некоторые лиственные, в т. ч. березу, ольху, осину. Например, в г. Дубна около 30 % всех естественных и искусственно насаженных хвойных пород поражены корневой губкой. Для очагов корневой губки в сосняках характерно четко выраженное куртинное усыхание: после выпадения или рубки усохших деревьев образуются прогалины, которые постепенно зарастают лиственными породами, кустарниками и злаками. По периферии прогалин размещаются в разной степени ослабленные деревья. За очагом образуется зона скрытого заражения шириной до 5 м: здесь деревья не имеют видимых признаков поражения. Ежегодно прогалины увеличиваются, сливаются, за несколько лет образуется редина.
Среди вредителей леса в Подмосковье следует назвать короеда-типографа, который нападает на ослабленные древостои и доводит их до состояния сухостоя. Например, вспышка короеда-типографа в Московской области произошла после засушливого сезона в 2010 г. Однако борьба с вредителем началась только с 2012 г. На тот момент было поражено уже свыше 117 тысяч га леса. Последние исследования зимующего запаса короеда-типографа подтверждают, что в 2014 г. лесному хозяйству Московской области удалось вернуть численность короеда-типографа в его естественные значения и остановить его массовое размножение. Перелом в борьбе с короедом-типографом был обеспечен крупно масштабными работами по снижению его численности [6].
Лесной пожар – одна из самых серьезных проблем лесов, на территории Подмосковья пожары происходят чаще всего из-за человеческих факторов: разведение костров в пожароопасный период, стеклянная тара, которую выкидывают на территории лесных массивов, непотушенная сигарета. Наибольшая природная пожарная опасность отмечается в Ногинском, Шатурском, Орехово-Зуевском, Виноградовском и Егорьевском лесничествах. В 2016 г. количество лесных пожаров в Московской области уменьшилось на порядок, всего было выявлено 134 возгорания. Показатели по оперативности тушения и предотвращения возгораний по сравнению с прошлыми годами значительно улучшились [4,7].
К следующей проблеме лесов можно отнести нерациональное использование порубочных древесных остатков. Отсутствие специальной техники по уходу за лесом приводит к скоплению сухостоя в городских лесах. Для проведения санитарных рубок в Подмосковье используется две технологии: с помощью роботизированных комплексов и ручной валкой. После применения обоих способов должна выполняться очистка от порубочных остатков. Ветви, сучья, кору и пни, пораженные вредителями и болезнями, необходимо сжигать в первую очередь. Порубочные остатки являются идеальной средой для размножения вторичных вредителей леса и способствуют развитию болезнетворных грибов, разрушающих древесину. После очистки лесного участка почва должна быть подготовлена под посадку саженцев, а сами древесные отходы следует рационально использовать.
На сегодняшний день необходимым является проведение полного комплекса работ по лесному фонду. В некоторых городах Подмосковья подобные мероприятия проводятся, хотя чаще всего в недостаточном объеме. Связано это с недостатками финансирования и специалистов лесного дела, а также слабым осознанием среднестатистическим жителем ценности леса, его проблем и масштабов их проявления.
Для поддержания лесов в благоприятном состоянии необходимо очистить леса от мертвых и поврежденных древостоев, чтобы предотвратить расширение очагов вредителей и болезней и снизить пожарную опасность; проводить мониторинг лесных насаждений, усилять защиту лесов от возгораний в пожароопасной период. Также необходимо проведение обновленных рубок и восстановления лесных насаждений. Чтобы сохранить леса в благоприятном экологическом состоянии требуется не только проведение полного многоцелевого комплекса работ по лесному фонду, но и ведение непрерывного экологического воспитания и образования населения.
Список литературы
1. Атрощенко Л.А., Дмитриева О.В. Эффективность использования лесов Подмосковья. URL: http://mguu.ru/images/publications/atroschenko-dmitrieva-podmoskovie.pdf Дата обращения 01.17. Режим доступа: свободный.
2. Дзама Е.Д., Савватеева О.А., Каманина И.З., Предположение по повышению эффективности управления лесным городским фондом // Фундаментальные исследования. – №9. – С. 550–552.
3. О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской области в 2015 году // Информационный выпуск. – Красногорск: Министерство экологии и природопользования Московской области,
4. Энциклопедия лесного хозяйства. – М.: ООО «Стагирит-Н», – 424 с.
5. http://www.mnr.gov.ru/maps/?region=50 − Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации/Московская область. Дата обращения 01.17. Режим доступа: свободный.
6. http://www.shatura.ru/news/v-moskovskoj-oblasti-nachalos-provedenie-sanitarno- ozdorovitelnyh-meropriyatij/ − Сайт администрации Шатурского муниципального района / В Московской области началось проведение санитарно-оздоровительных мероприятий. Дата обращения 01.17. Режим доступа: свободный.
7. http://www.wood.ru/ru/index.php3?pag=lonews&beg=0 − Первый лесопромышленный портал /Новости лесной отрасли. Дата обращения 01.17. Режим доступа: свободный.
8. http://www.wood.ru/ru/loahtml − Первый лесопромышленный портал/ Что угрожает лесам Подмосковья. Дата обращения 12.01.17. Режим доступа: свободный.
Что угрожает лесам Подмосковья
А. Ю. Ярошенко, источник статьи
Леса Подмосковья играют важнейшую роль в обеспечении благоприятной окружающей среды для жителей Москвы и Московской области — т.е., по разным оценкам, для 16-20 миллионов человек. От состояния подмосковных лесов в решающей степени зависит, насколько жители столичного региона будут обеспечены в ближайшие десятилетия чистым воздухом, качественной питьевой водой, местами для отдыха и другими благами, входящими в понятие «благоприятная окружающая среда».
Конституция Российской Федерации (статья 42) устанавливает право каждого на благоприятную окружающую среду. Одновременно с этим, Конституция утверждает, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (ст. 2), и что «Права и свободы человека и гражданина … определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления» (ст. 18). Таким образом, согласно Конституции, сохранение лесов и в целом благоприятной окружающей среды не только является обязанностью государства, но и должно, в числе прочего, определять смысл и содержание деятельности органов государственной власти.
Несмотря на это, состояние лесов и других природных территорий Подмосковья, а также способности этих территорий обеспечивать благоприятную для граждан окружающую среду, неуклонно ухудшаются. Леса и другие природные территории или уничтожаются и деградируют в результате застройки, загрязнения, замусоривания, неправильных рубок, или исключаются из общего пользования. Органы государственной власти, вопреки Конституции, не только не препятствуют этим процессам, но и во многом способствуют им, принимая и утверждая планы, схемы и проекты, связанные с развитием населенных пунктов и инфраструктуры в первую очередь за счет сокращения площади природных территорий, т.е. за счет ухудшения качества окружающей среды. К числу таких документов относятся, например, Схема территориального планирования Московской области, Лесной план Московской области, проекты ряда платных скоростных автомагистралей (Центральной кольцевой автомобильной дороги, автомагистралей Москва-Санкт-Петербург, Москва-Минск и других), а также многочисленные проекты меньшего масштаба.
Кроме того, в Подмосковье происходит фактическое вымирание тех отраслей народного хозяйства, которые связаны с управлением природными территориями — прежде всего, лесного и сельского хозяйства. В результате этого леса и другие природные территории приходят в упадок, теряют свою эстетическую и средообразующую ценность, зачастую превращаются в свалки бытового и промышленного мусора, страдают от многочисленных травяных палов и лесных пожаров. Разруха в лесном хозяйстве, несвоевременное и некачественное проведение лесохозяйственных мероприятий усиливают уязвимость лесов, существующих в условиях сильно преобразованной человеком среды, к таким условно-природным факторам, как вредители и болезни, пожары и ветер.
В наибольшей степени от воздействия человека страдают леса центральной части Подмосковья, главным образом те, которые находятся в пределах «Малого московского кольца» — автомобильной дороги А107. Эти леса испытывают самую значительную рекреационную нагрузку, в наибольшей степени подвергаются воздействию загрязнения воздуха, замусоривания, изменения уровня грунтовых вод, они же в наибольшей степени страдают от захватов и застройки лесных земель и фрагментации при прокладке новых линейных объектов. Самые значительные ухудшения системы управления лесами произошли за последние годы на территории бывшего лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) Москвы. В 2005-2007 г.г., в связи с реформами лесного законодательства, произошло изъятие полномочий по оперативному управлению ЛПЗП у города Москвы. В процессе изъятия полномочий старая система управления этими лесами, обеспечивавшая функционирование специализированных лесхозов и лесничеств, лесной охраны, лесных питомников и прочей лесной инфраструктуры, оказалась практически полностью разрушенной, многие важнейшие документы были утрачены или уничтожены. Федеральному агентству лесного хозяйства, получившему изъятые у города полномочия, пока так и не удалось создать сколько-нибудь эффективную систему управления лесами бывшего ЛПЗП. Фактически лесопарковый защитный пояс Москвы прекратил свое существование, сейчас подмосковные лесопарки быстро деградируют и уничтожаются.
Главный источник угроз лесам Подмосковья
Главным источником угроз лесам Подмосковья является постоянно растущая перенаселенность столичного региона, в особенности Москвы и ближайших районов Московской области. Население Московской агломерации (Москвы и территорий ближайшего Подмосковья, фактически образующих единую с Москвой населенную территорию) составляет, по разным оценкам, 15-17 миллионов человек. Таким образом, Московская агломерация попадает в первую двадцатку или даже десятку крупнейших городских агломераций мира. Однако, из-за отсталости стратегического планирования, природоохранных технологий и общественных отношений, по остроте экологических проблем Московская агломерация явно попадает в небольшую группу мировых лидеров. По численности населения Москве еще далеко до Токио (численность населения этой агломерации составляет почти 34 млн человек) и еще нескольких крупнейших городов мира. Однако, отсталые технологии в области охраны окружающей среды, отсутствие грамотного и справедливого планирования использования земель, коррупция, неразвитость местного самоуправления, правоохранительной системы, здравоохранения, образования и другие проблемы существенно усугубляют московские проблемы, связанные с перенаселенностью.
При сложившейся системе управления страной стимулы к развитию получают только крупнейшие административно-финансовые центры и отдельные сырьевые провинции, а основная часть территории страны, включая практически все сельские населенные пункты, большинство малых и средних городов, с той или иной скоростью пустеет и вымирает. На фоне разрухи и запустения, царящих в большинстве сел, деревень и малых городов нашей страны, Московская агломерация выглядит как своеобразный «Ноев ковчег» для экономически активной части населения, позволяющий пережить очередные трудные времена. Проблему усугубляет то, что рост численности населения Московской агломерации в значительной степени происходит за счет представителей тех социальных групп населения, которые характеризуются, с одной стороны, повышенными потребительскими амбициями, а с другой стороны — правовым нигилизмом и презрительным отношением к интересам других граждан (чиновников, сотрудников правоохранительных органов, криминальных элементов и т. д.).
Быстрый рост численности населения столичного региона, в особенности — той части населения, которая характеризуется повышенными потребительскими амбициями, ведет к быстрому росту потребности в землях для разнообразного строительства и развития инфраструктуры. Постоянное ухудшение качества окружающей среды в самой Москве (в связи с «уплотнительной застройкой», ростом количества автотранспорта и связанного с ним загрязнения и шума, и т. д.) дополнительно создает стимулы к развитию загородного жилищного строительства и интенсивности транспортного сообщения между Москвой и Подмосковьем. Это, в свою очередь, стимулирует изъятие новых природных территорий под застройку и инфраструктуру.
Существующие документы, определяющие стратегию развития столичного региона, в максимально возможной степени способствуют дальнейшему росту его перенаселенности, а также удовлетворению потребности растущего населения в земельных ресурсах, главным образом за счет природных территорий. Генеральный план Москвы предусматривает значительный рост потребности в трудовых ресурсах — грядущий дефицит этих ресурсов оценивается по меньшей мере в 1,3-1,5 млн человек, а уровень, на котором должен в будущем «стабилизироваться» миграционный прирост населения — в 50-75 тысяч человек в год. Схема территориального планирования Московской области предусматривает концентрацию градостроительной деятельности практически на всех территориях, примыкающих к транспортным магистралям ближнего Подмосковья. Лесной план Московской области предусматривает использование большей части лесов, находящихся в пределах кольцевой автомобильной дороги А107, для так называемой «рекреационной деятельности», которая, согласно новому Лесному кодексу, подразумевают возможность застройки и фактического изъятия лесов из общего пользования. Проект строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги приобретает какой бы то ни было экономический смысл только в совокупности с развитием на прилегающих к ЦКАД территориях новых промышленных и складских объектов, а также населенных пунктов. Новые радиальные автомагистрали, соединяющие Москву и Подмосковье, проектируются в расчете на продолжение роста автомобильных перевозок, соответствующее современным тенденциям. Совместная реализация Схемы территориального планирования Московской области, проектов ЦКАД и новых радиальных автомагистралей, и Лесного плана Московской области фактически приведут к появлению единой урбанизированной территории диаметром около 120 километров. При полной реализации этих планов у большинства лесов ближнего Подмосковья (в пределах автомагистрали А107 — Малого московского кольца) практически нет шансов на выживание.
Необходимо отметить, что безудержный рост Московской агломерации грозит отнюдь не только лесам и другим природным экосистемам. Перенаселенность является источником значительного количества социальных проблем — конфликтов между различными социальными и этническими группами населения, ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, криминализации общества и т. д. В нашем условно-правовом государстве с разрушающимися системами правоохранительных органов, образования и здравоохранения, давними традициями использования государством принципа «разделяй и властвуй», хроническим взаимным недоверием между обществом и властью, эти проблемы особенно опасны. Кроме того, быстрый рост Московской агломерации и реализация крупных и очень дорогих инфраструктурных проектов, направленных на обслуживание этого роста, неизбежно приведет к увеличению разрыва между столицей и большинством других регионов страны до уровня, ставящего под угрозу единство и целостность всей страны.
С какой скоростью растет Московская агломерация?
Достоверных данных о скорости роста населения Москвы и ближнего Подмосковья нет. Росстат ежегодно учитывает население каждого субъекта Российской Федерации, в том числе Москвы и Московской области, с точностью до одного человека, но учет этот касается лишь «официально проживающих» граждан. Для получения информации о «реально проживающих» время от времени проводятся переписи населения. Качество данных, получаемых при переписях, также вызывает самые серьезные сомнения — многие жители нашей страны по вполне понятным причинам стараются избегать, насколько это возможно, контактов с представителями государства, в том числе при переписи, да и качество работы самих переписчиков давно стало темой для шуток и анекдотов. Но в настоящее время подобные переписи представляют собой единственный более или менее реальный источник информации о количестве жителей столичного региона.
За последнее десятилетие переписи населения проводились два раза — в 2002 и 2010 г.г. Итоги переписи населения 2002 года официально опубликованы и общедоступны, итоги переписи 2010 года будут официально опубликованы, как ожидается, в конце 2012 года. Пока есть лишь отдельные предварительные данные о результатах переписи 2010 года по некоторым регионам, в том числе по Москве.
Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года, в Москве проживали 10382754 человека. Согласно заявлению заместителя мэра Москвы В.Ю. Виноградова, размещенному на официальном сайте Всероссийской переписи населения 2010 года, «в Москве во Всероссийской переписи населения, которая проходила в стране с 14 по 25 октября 2010 года, приняли участие 95 процентов населения или 11,7 млн человек». Если 11,7 миллиона человек составляют 95 процентов населения Москвы, то общая численность населения составляет, соответственно, 12,3 миллиона человек.
Таким образом, за восемь лет, прошедших между двумя переписями населения, количество жителей Москвы увеличилось с 10,4 млн человек до 12,3 млн человек (или до 11,7 млн человек, если считать только тех, кто принял участие в переписи). Это соответствует среднему росту населения Москвы (в пределах ее административных границ) примерно на 2,2 % в год (или на 1,5 % в год, если в 2010 году считать только тех, кто принял участие в переписи).
Сравнение данных переписи населения 2002 года с данными предшествовавшей ей переписи 1989 года показывает, что за период между этими двумя переписями население Москвы увеличивалось примерно на 1,2 % в год.
По Московской области предварительных итогов переписи населения пока нет. Данные Росстата об «официально проживающих» жителях двух регионов показывают, что их численность в Московской области за период с 2002 по 2009 г.г. увеличивалась в полтора раза медленнее, чем в Москве (на 0,22 % в области, и на 0,33 % в Москве). В период между переписями 1989 и 2002 г.г. численность населения Московской области сокращалась на 0,03 % в год.
За неимением других данных, можно предположить, что рост численности реального населения Московской области примерно так же отставал от роста численности реального населения Москвы, как и рост численности «официально проживающих». Исходя из этого, можно предположить, что численность населения Подмосковья увеличивается сейчас примерно на один процент в год, или даже чуть больше. Совершенно очевидно, что в основном этот рост численности приходится на населенные пункты ближнего Подмосковья.
Исходя из всех этих данных, получается, что в настоящее время количество жителей Москвы и ближнего Подмосковья (т.е. Московской агломерации) увеличивается более чем на триста тысяч человек в год.
Как изменяется площадь лесов Подмосковья и их доступность для граждан
Если рассматривать леса Московской области в целом, без разделения на центральные и окраинные районы, то динамика общей площади лесов выглядит вполне благополучно. На протяжении последних двух десятилетий сельское хозяйство в Подмосковье деградировало и умирало быстрее, чем лесное хозяйство, поэтому убыль лесов в центральных районах области полностью компенсировалась приростом их площади за счет зарастания заброшенных сельскохозяйственных угодий в окраинных районах. Достоверных данных об изменении площади лесов Подмосковья за последние десятилетия нет. По официальным данным, лесистость Московской области составляла по состоянию на 1 января 2003 года 41,0 % (Лесной фонд России по данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 1 января 2003 г. М, Рослесинфорг и ВНИИЛМ, 2003), а по состоянию на 1 января 2008 года — уже 42,2 % (Лесной план Московской области). Сравнение данных Лесного плана Московской области и данных Государственного учета лесного фонда 2003 года показывает, что учтенная площадь земель лесного фонда и других лесов увеличивалась в 2003-2007 г.г. примерно на 0,8 % в год, а площадь собственно лесов на землях лесного фонда — примерно на 0,9 % в год. Реальное увеличение площади лесов Подмосковья за этот период было, скорее всего, несколько меньшим, но все равно — общая площадь лесов Московской области за последние несколько лет немного увеличилась, и, скорее всего, еще немного увеличится в ближайшие годы.
Однако, лесистость региона и общая площадь лесов — это показатели, аналогичные «средней температуре по больнице». Как средняя температура по больнице почти ничего не говорит о состоянии здоровья ее пациентов, так и незначительные изменения лесистости региона в целом почти ничего не говорят о способности лесов выполнять важнейшие средообразующие и природоохранные функции, а также о жизнеспособности этих лесов. В окраинных районах области состояние лесов остается более или менее благополучным, но в центральных, в особенности в пределах Малого московского кольца (автомагистрали А107), леса деградируют по всем показателям.
Сокращение площади лесов и других природных территорий, доступных для общего пользования в центральных районах области и вблизи крупных подмосковных городов происходит за счет совместного действия трех важнейших факторов:
а) непосредственного уничтожения лесов при застройке и прокладке коммуникаций, или огораживания участков, предоставленных под застройку;
б) возведения вокруг незанятых лесов разнообразных заборов и построек, препятствующих доступу граждан в эти леса;
в) приведения лесов в непригодное для отдыха людей состояние за счет замусоривания, хаотических рубок, усиления шумового воздействия и тому подобных действий.
До недавнего времени скорость уничтожения лесов бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы была вполне умеренной. Необратимое сокращение площади лесов в пределах бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы составило, согласно дистанционным данным, около шестисот гектаров за период с 1992 по 2008 г.г., или около одного процента от исходной площади лесов, т.е. в среднем площадь лесов необратимо сокращалась примерно на 0,06 % в год (Природа Подмосковья: утраты последних двух десятилетий. Карпачевский М.Л. и др. М, Центр охраны дикой природы, 2009. 92 с.). Кроме того, происходило изъятие части еще незастроенных лесов из общего пользования путем их захвата и огораживания — данные о площади изъятых из общего пользования лесов отсутствуют.
Одновременно с этим происходила значительно более быстрая застройка прочих земель, входящих в состав природных территорий ближнего Подмосковья, главным образом земель сельскохозяйственного назначения. За период с 1992 по 2008 г.г. в пределах границ бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы было застроено около 4,9 тыс. га нелесных природных территорий. Общая площадь нелесных природных территорий в пределах границ бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы в этот период сокращалась примерно на 0,3 % в год. В целом площадь всех природных территорий в пределах бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы сокращалась за этот период примерно на 0,2 % в год.
После принятия в 2006 году нового Лесного кодекса Российской Федерации, допускающего застройку предоставленных в аренду для некоторых видов использования лесов лесных участков, сложились условия для ускорения изъятия лесов бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы из общего пользования. Однако, данные о скорости сокращения доступных для граждан природных территорий Подмосковья за период с 2006 по 2010 г.г. пока отсутствуют.
Необходимо учитывать, что реализация проектов и планов, связанных с освоением конкретного лесного или иного природного участка, его огораживанием и изъятием из общего пользования, может занимать достаточно длительный срок — от нескольких месяцев до нескольких лет. Фактически наблюдаемая скорость исключения природных территорий из общего пользования отражает в среднем скорость принятия соответствующих решений, наблюдавшуюся несколько (3-5) лет назад. Таким образом, последствия упрощения изъятия лесов из общего пользования, произошедшего в результате введения в действие Лесного кодекса 2006 года, в полной мере будут ощущаться жителями столичного региона лишь во втором десятилетии XXI века.
Застройка и огораживание лесных участков, и в еще большей степени — застройка и огораживание прочих природных территорий, примыкающих к лесам, затрудняет доступ граждан даже в те леса, которые пока остаются формально свободными. На данный момент не представляется возможным оценить, какая именно площадь лесов оказалась изъятой из общего пользования из-за отсутствия свободного прохода в эти леса. Выборочные наблюдения за отдельными наиболее густо застроенными территориями говорят о том, что площадь природных территорий, становящихся недоступными или ограниченно доступными для граждан, может в три-четыре раза превышать площадь непосредственно застроенных или целенаправленно огороженных участков. С учетом этого, фактические потери площади лесов и других природных территорий, доступных для отдыха граждан в пределах границ бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы, могут достигать одного процента в год.
Дополнительные потери лесов, доступных для отдыха граждан, связаны с интенсивным замусориванием, хаотическими рубками, не учитывающими особенности рекреационных территорий, гибелью лесов в результате воздействия вредителей, болезней, пожаров и тому подобных явлений, а также ростом шумового воздействия вдоль крупных автомагистралей и железных дорог. От этих видов воздействия страдают прежде всего наиболее доступные для граждан леса, в особенности — в пределах бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы.
Следует также отметить, что из-за быстрого роста численности населения Московской агломерации, площадь лесов и других природных территорий, приходящихся на каждого ее жителя, сокращается гораздо быстрее. С учетом всех приведенных выше данных и оценок, площадь все еще доступных и пригодных для рекреационного использования лесов бывшего лесопаркового защитного пояса Москвы, приходящаяся на каждого реального жителя Московской агломерации, сокращается не менее чем на 3,5-4 процента в год.
Из-за всего вышеперечисленного скорость исключения лесов и других природных территорий из общего пользования, ощущаемая жителями Москвы и Московской области, значительно выше скорости «официального» изъятия лесных участков и других природных территорий. Иными словами, окружающая жителей Москвы и Подмосковья среда в действительности становится менее благоприятной и менее доступной гораздо быстрее, чем в соответствии с данными официальной статистики.
А. Ю. Ярошенко, руководитель лесного отдела Гринпис России, «Лесной форум Гринпис России»
11/01/2011
Оценка ценотического разнообразия лесного покрова и его динамики в эталонных ландшафтах Московского региона по данным дистанционного зондирования
DOI: https://doi.org/10.21638/spbu07.2019.202
Олег Дмитриевич Васильев
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1
Галина Николаевна Огуреева
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1 https://orcid.org/0000-0002-5407-9792
Сергей Владимирович Чистов
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1
АННОТАЦИЯ
В статье представлен результат оценки ценотического разнообразия лесов эталонных ландшафтов ледникового и водно-ледникового генезиса в различных физико-географических провинциях Московской области: Верхневолжской низменности, Клинско-Дмитровской гряды, Теплостанской возвышенности, Мещерской низменности. Основой для оценки послужили карта растительности Московской области (под ред. Г.Н. Огуреевой, 1:200 000) и космические снимки системы Landsat. Базовой единицей оценки экологического потенциала и состояния лесного покрова выступает эпиассоциация, что даёт возможность через соотношение коренных, коротко- и длительнопроизводных сообществ определить степень нарушенности при антропогенном воздействии и сохранность экологических функций лесов (Сочава, 1972).
На основе картографического метода исследования выделены ландшафтные комплексы типов леса, проведена оценка экосистемного разнообразия на локальном уровне, по космическим снимкам обновлено содержание среднемасштабной карты растительности Московской области. В пределах Верхневолжской низменности основную долю лесов занимают елово-берёзовые и елово-сосновые короткопроизводные сообщества, в ландшафте в пределах Клинско-Дмитровской гряды – сосново-еловые и еловые с ольхой серой условно-коренные и короткопроизводные, в пределах Теплостанской возвышенности – хвойно-широколиственные длительнопроизводные сообщества, в ландшафте Мещерской низменности – хвойные бореальные условно-коренные и короткопроизводные леса.
Во всех рассмотренных ландшафтах отмечено сильное сокращение лесистости, связанное, прежде всего, с увеличением антропогенной нагрузки на природные комплексы. Наиболее сильное сокращение площади лесов и фрагментация лесного покрова произошли в Апрелевско-Кунцевском ландшафте Теплостанской возвышенности, в Истринском ландшафте Клинско-Дмитровской гряды, хвойные леса которой пострадали также еще и от деятельности короеда-типографа. На основе полученных данных авторами составлены карты сокращения лесного покрова эталонных ландшафтов.
1. Постановка проблемы
В настоящее время на разных уровнях принятия решений большое внимание планирующих организаций и хозяйствующих субъектов уделяется экологии и устойчивому развитию территорий. Важнейшее условие экологического благополучия в регионе — сохранение природно-экологического потенциала, неотъемлемую часть которого составляет прежде всего лесной покров. Этот потенциал обычно оценивается по таким показателям, как сохранность биоразнообразия, степень нарушенности лесных массивов и обусловленные этими двумя факторами экологические функции, выполняемые лесами. В свою очередь, средообразующие экологические функции растительности связаны с биопродукционной способностью сообществ: образованием и накоплением биомассы, накоплением гумуса, продуцированием кислорода и фитонцидов, а также с депонированием углерода. Чем больше площадь лесного массива и выше его биопродуктивность, тем выше ресурсный и природно-экологический потенциал региона (Чистов, 1993). Сокращение площади лесов, слабо развитая система лесного мониторинга, недооценка происходящих в лесном фонде процессов и тенденций развития лесов в регионах вызывают определенную тревогу не только в лесном сообществе специалистов и практиков, но и в обществе в целом (Исаев и Коровин, 2003).
Московская область характеризуется большой степенью антропогенного преобразования природных комплексов, нетронутой природы здесь уже практически не осталось. В связи с этим сохранению и восстановлению площади лесов как основы экологического каркаса региона следует уделять внимание при создании генеральных планов развития территории. В современных условиях администрации Москвы и Московской области декларируют проведение различных мероприятий по восстановлению природной среды и сохранению зеленых насаждений. В 2012 г. довольно большая территория Московской области была присоединена к столице с образованием Троицкого и Новомосковского административных округов. Изначально концепция ее градостроительного освоения базировалась на организации офисного строительства, коттеджной и малоэтажной застройки. Однако в ходе развития региона площади лесов здесь сокращаются в угоду многоэтажному строительству и организации транспортных развязок (Васильев и Чистов, 2016). Аналогичная ситуация сохраняется в Балашихинском, Щёлковском, Истринском и во многих других районах области.27 Это не создает иллюзий относительно негативных последствий, которые повлечет утрата целых лесных массивов.
Цель настоящей работы — оценка ценотического разнообразия лесов и их динамики за последние 25 лет посредством картографического метода исследований по данным космических снимков в пределах выделенных эталонных ландшафтов Московской области. Замена здесь коренных типов леса на производные приводит к снижению ресурсного и экологического потенциала последнего. В связи с этим в наши задачи входила оценка основных тенденций в динамике природно-экологического потенциала территории с учетом ценотического разнообразия лесов и ландшафтной приуроченности лесных эпиассоциаций. В качестве эталонных были выбраны ландшафты моренного и моренно-водно-ледникового генезиса в пределах различных природных провинций Московской области: Верхневолжской низменности, Клинско-Дмитровской гряды, Теплостанской возвышенности и Мещерской низменности (Анненская и др., 1997). Исходя из анализа пространственной структуры лесного покрова в пределах эталонных ландшафтов проведена оценка динамики лесного покрова за последние 25 лет.
Работа выполнена сотрудниками кафедры картографии и геоинформатики и кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Она является частью многолетнего исследования, реализуемого на кафедре картографии и геоинформатики с 2014 г. Результаты пространственного анализа за-несены в единую базу геоданных, посвященную экологическим функциям лесов Московского региона, которая содержит информацию как о составе лесов эталонных ландшафтов, так и об экологических функциях, выполняемых лесными сообществами.
2. Объекты и методика
В качестве изучаемых территорий, на которых мы выявляли тенденции изменения площади лесов, выбраны моренные и моренно-водно-ледниковые ландшафты, расположенные в различных природных провинциях Московской области. Они имеют схожее дочетвертичное основание, но по-разному развивались в четвертичное время, что обусловлено деятельностью ледника, сформировавшего современный ландшафтный облик данной местности. Современные ландшафты оформи-лись в основном в конце периода последней смены климата в позднем голоцене и подвержены влиянию антропогенного фактора в течение последних 2000 лет. Многократные климатические изменения, а также постоянное воздействие человека привели к тому, что разные ландшафты области испытали разное число смен основных компонентов своей структуры (Анненская и др., 1997). Наиболее типичные (эталонные) ландшафты различных природных провинций наглядно характеризуют типологическое разнообразие лесов, обусловленное и природными особенностями (различиями в соотношении тепла и влаги, почвах и т. д.), и степенью хозяйственного освоения территорий. Выбранные для анализа эталонные ланд-шафты существенно различаются пространственным соотношением лесов разных формаций и их эколого-динамическими рядами, возникшими при трансформации лесного покрова.
Верхневолжская низменность — зандровоаллювиальная низменность на Восточно-Европейской равнине, занимающая север Московской, Тверскую и Ярославскую области. Она тянется широкой полосой вдоль Волги и по долинам ее притоков — Тверцы, Медведицы и Шоши. Плоская, местами заболоченная поверхность Верхневолжской низменности была сформирована талыми ледниковыми водами московского оледенения, которые заполняли ледниковым материалом существо-вавшие ранее понижения (Национальный…, 2004). Расчленена слабо, выделяются лишь неглубокие депрессии (часто заболоченные и заторфованные) и низкие (высотой 150–160 м) моренные холмы с пологими склонами. С юго-востока в рельефе прослеживается древняя долина стока.
В пределах Верхневолжской низменности в качестве эталонного выбран Ермолинский ландшафт (1)28, который приурочен к несколько приподнятым и расчлененным участкам рельефа, в основании сложенным глинами юрского возраста.
Водно-ледниковые равнины занимают 45 % его площади. Они плохо дренированы, поэтому ландшафт в целом переувлажнен, развито оглеение почв, что сказывает-ся на составе произрастающих здесь лесов. Территория относительно мало осво-ена (по сравнению с другими эталонными ландшафтами), тем не менее это один из важных районов выращивания сельскохозяйственных культур. Кроме того, в настоящее время здесь интенсивно развивается сеть новых автомобильных дорог и растет площадь населенных пунктов.
Клинско-Дмитровская гряда — наиболее возвышенный участок Московской области, где высотные отметки достигают 290–310 м. Она сложена в основном ко-ренными породами мелового возраста, перекрытыми повсеместно четвертичными отложениями. Территория не раз подвергалась оледенению; последнее, Москов-ское, происходило порядка 170–125 тыс. лет назад (Рычагов, 2006). Здесь распространены осадочные породы моренного генезиса, имеющие различный химический и механический состав (Спиридонов, 1972).В пределах этой гряды выделен Истринский ландшафт (35), который сфор-мировался в пониженных участках коренного рельефа, сложенного глинами юрского возраста, в тех местах, где морена была частично размыта и погребена под водно-ледниковыми отложениями. Это ландшафт моренно-водно-ледниковых равнин с абсолютной высотой порядка 170 м. Наличием юрских глин обусловлена его повышенная увлажненность. Мощность московской морены доходит до 50 м (Анненская и др., 1997). На территории Клинско-Дмитровской гряды в настоящее время практически повсеместно растет антропогенное влияние: вырубаются леса, развиваются инфраструктура и садоводческие хозяйства, а в Истринском районе известны случаи, когда на месте вырубленных при санитарной рубке старовозрастных лесных массивов появились объекты недвижимости29.
Теплостанская возвышенность является, по сути, отрогом Смоленско-Московской возвышенности. Она сильно расчленена оврагами и балками, абсолютные высоты местами достигают 255 м. В период Московского оледенения эта территория находилась в периферии ледника, водно-ледниковые отложения на ней име-ют различный механический состав. В пределах возвышенности эталоном выбран Апрелевско-Кунцевский ландшафт (56), который образовался как озеровидное понижение в ложбине стока талых ледниковых вод на приподнятом цоколе верхне-юрских глин с прослоями песков, нижнемеловых песков с прослоями карбоновых глин (Анненская и др., 1997). Основную часть его площади занимают моренные и озерно-водно-ледниковые равнины. Природные комплексы ландшафта в значительной степени трансформированы деятельностью человека: повсеместно происходит дальнейшее сельскохозяйственное освоение территории, растут населенные пункты, с развитием транспортной сети и многоэтажного строительства ведутся рубки лесов.
Мещерская низменность расположена на востоке Московской области, основная ее часть лежит в пределах Рязанской и Владимирской областей. Абсолютная высота колеблется от 80 до 130 м. Образование низменности связано с деятельностью ледников, которые превратили здесь поверхность в плоскую равнину. В ее основании лежат водонепроницаемые глины юрского возраста. После таяния ледника смесь из песка, гравия и глины заполнила понижения в рельефе, в которых образовались болота и озера. Последнее (Московское) оледенение было непродолжительным, вероятно в этой местности проходил ледораздел. После схода ледника данная территория долго находилась в зоне действия водно-ледниковых потоков. На ней в качестве эталонного выбран Лузгаринский ландшафт (97), он занимает наиболее возвышенный междуречный участок Мещерской низменности и совпадает с выступами коренного фундамента. Рельеф типичный конечно-моренный, холмисто-западинный, переувлажненный, заболоченный (Анненская и др., 1997). Природный комплекс ландшафта, в том числе его лесной компонент, находятся в естественном режиме, и прослеживаются лишь относительно слабые антропогенные изменения.
Методика работ. Исследование проводилось в четыре этапа. На первом этапе в пределах отмеченных выше ландшафтов были собраны необходимые картографические источники и материалы лесной таксации, а также оригинальные авторские результаты натурных исследований. Чтобы проследить изменчивость структуры эпиассоциаций в лесах эталонных ландшафтов за последние 25 лет, был необходим какой-то базис сравнения. Таковым стала среднемасштабная (1 : 200 000) карта «Растительность Московской области» (Карта…, 1996), на которой растительный покров дан по состоянию на 1991 г. Мы исследовали его на основе эколого-мор-фологической классификации лесов, динамической трактовки их современного со-стояния и ландшафтной приуроченности, что соответствует концепции эпитаксонов (эпиассоциаций) (Сочава, 1972). Использование картографических материалов и упомянутой концепции позволило проследить не только тенденции изменения площади лесов, но и динамику их качественного состояния по соотношению площадей коренных, условнокоренных и производных лесных насаждений (Огуреева и Суслова, 1992). Коренные сообщества отражают экологический потенциал ландшафта через природную структуру лесов и их типологическое разнообразие. Ценность выбранной карты растительности состоит в том, что она показывает присущий природе динамизм смены растительных сообществ, обусловленный антропогенным воздействием. Также были использованы крупномасштабные (1 : 25 000) материалы лесной таксации, как использованные при составлении карты растительности, так и датированные 2007, 2008 годом, имеющиеся в фондах кафедры биогеографии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, по которым был оценен средний возраст лесов; к сожалению, материалы лесной таксации последних лет имеют статус ведомственных и практически недоступны.
На втором этапе работы мы оценивали состояние лесного покрова ландшафтов по соотношению площадей условнокоренных и короткопроизводных сообществ, в древостое которых сохранились основные коренные породы (ель, сосна, дуб), и произрастающих на их месте длительнопроизводных сообществ, в древостое которых коренные породы сменились на мелколиственные (осину, березу, ольху), но сохранилась способность восстановиться до условнокоренного состояния (Котова и др., 2000). Такие динамические ряды каждой эпиассоциации обозначены в легенде упомянутой карты и показаны на ней специальными обозначениями (ин-дексами, изменением насыщенности цвета и штриховкой).
На третьем этапе работы мы сопоставляли фрагменты карт с эталонными ландшафтами; их цифровой аналог был трансформирован и географически привязан по множеству точек к координатной сетке в среде ArcGIS (версия 10.2). Тематическое содержание карты было актуализировано по сделанным космически-ми аппаратами (КА) систем Landsat 5 (сентябрь 2006 г.) и Landsat 8 (сентябрь 2014 и 2016 гг.) снимкам, которые по своим характеристикам и пространственному раз-решению оптимально подходят для среднемасштабных исследований. Строго говоря, снимки с разрешением 30 м нельзя применять для карт масштаба 1 : 100 000 и крупнее ввиду того, что при таком масштабе длина диагонали пиксела на карте равна 0,45 мм, что больше графической точности карты, и пренебречь этим уже нельзя, но они оптимальны для карт масштабов 1 : 200 000 и 1 : 300 000. Мы апробировали снимки, сделанные в различные сезоны года и на основе анализа результатов, а также с учетом качества отснятого материала приняли решение использовать снимки за сентябрь, для которых характерна определенная форма крон деревьев, сформировавшихся за вегетационный период климатического года. Эта характеристика — один из признаков для дешифрирования деревьев разного вида на снимках породного состава древостоя.Произошедшие с 1991 по 2016 г. изменения в структуре лесных эпиассоциаций четырех эталонных ландшафтов сравнивались по материалам космической съемки за 2006, 2014 и 2016 гг. В качестве базиса использовалась упомянутая карта растительности. Лесные контуры, проведенные на карте, были проверены и уточнены по топографической основе соответствующего масштаба и по космическим снимкам, в связи с чем карта отражает реальную и достоверную информацию о состоянии лесного покрова на момент ее создания (растительный покров на карте дан по состоянию на 1991 г.). Развивающиеся в настоящее время методы дистанционного зондирования лесного покрова и обработки космических снимков позволяют решать отмеченные выше задачи дистанционно, без привлечения материалов лесной таксации или полевых исследований (как уже упоминалось, они имеют ведомственный статус и недоступны). При этом в качестве операционной единицы была выбрана эпиассоциация в соответствии с легендой упомянутой выше картой растительности.
Следующий, четвертый этап был посвящен автоматизированному дешифрированию космических снимков. Для этого были проведены необходимые предварительные геометрическая и радиометрическая коррекции, в результате чего все значения яркости изображений преобразовались в безразмерные коэффициенты спектральной яркости. Собственно, дешифрирование всегда реализуется в ходе нескольких последовательных процедур, необходимость которых обусловлена опытом множества экспериментов. Как следствие, полученные ниже выводы стали результатом поэтапно проведенных нами работ:
- для каждого эталонного ландшафта в пределах границ эпиассоциаций получена статистика о средневзвешенной яркости по основным съемочным каналам Landsat: синего, зеленого, красного и ближнего инфракрасного. Статистика собрана в результате проведения неконтролируемой классификации по методу k-means и последующей правки полученных в результате этого сигнатур;
- данная статистика по эталонам (сигнатурам) использована для реализации процедур контролируемой классификации по методу максимального правдоподобия. Полученный на основе этого результат уточнялся визуальным редактированием с целью коррекции границ лесных массивов.Вся работа проводилась в программе ERDAS Imagine; в ArcGIS экспортировался уже готовый результат дешифрирования. В результате было прослежено изменение лесного покрова и его трансформация за последние 25 лет (с 1991 по 2016 г.).
Последний этап заключался в получении расчетных параметров произошедших изменений. На основе этого получены представления не только о структуре эпиассоциаций, но и о суммарной их площади в пределах ландшафтов, что отображено в табл. 2 и 3.
3. Результаты и их обсуждение
Для всех эталонных ландшафтов отмечено высокое типологическое разнообразие лесного покрова, что характерно для зоны хвойно-широколиственных лесов, в пределах которой расположена Московская область. При этом важно соотношение площадей основных эпиассоциаций в ландшафте как показателя их природ-ной структуры, а также соотношение площадей условнокоренных, короткопроизводных (с участием в древостоях основных пород) и длительнопроизводных (с преобладанием березы, осины, ольхи) сообществ как показателя степени нарушенности древостоя и состояния природно-экологического потенциала ландшафта. Разномасштабность карт не позволяет точно определить соответствие распространения растительных сообществ границам индивидуальных ландшафтов. Эти границы, отмеченные на аналитической карте, следует рассматривать как условные. Во многих случаях растительность достаточно точно маркирует их и хорошо согласуется со структурой ландшафтов, в других местах встречающиеся эпиассоциации не полностью соответствуют ландшафтной структуре территории. В анализ мы включили в основном фоновые местности ландшафтов и отмеченные на карте растительности фоновые эпиассоциации.
Верхневолжская низменность. В Ермолинском ландшафте Верхневолжской низменности представлены 11 эпиассоциаций (рис. 1, а). По состоянию на 1991 г. его лесистость достигала 64%. В лесном покрове преобладали (занимая 47,2% общей площади ландшафта) сосново-еловые с ольхой серой и черной эпиассоциации (10 и 11; см. табл. 1)30. Они широко распространены в ландшафтах Верхневолжской равнины, где приурочены к слабоволнистым поверхностям подстилаемых мореной моренно-водно-ледниковых и водно-ледниковых равнин (120–180 м), сложенных песками и супесями. Субнеморальные еловые с ольхой серой леса (эпиассоциация 25) занимают наиболее высокие поверхности равнин. Сосново-еловые вейни-ково-чернично-зеленомошные леса определяют облик слабоволнистых и плоских зандровых равнин (120–140 м), сложенных водно-ледниковыми песками и супесями,
подстилаемыми мореной. Бореальные сосново-еловые и сосновые леса (эпиассоциации 16 и 21) в сочетании с участками верховых сфагновых и переходных болот обычны в пределах Верхневолжской низменности; в ландшафте занимают пониже-ния, ложбины стока и западины зандровых равнин (120–140 м) на флювиогляциальных песках и супесях с прослоями суглинков.
В лесном покрове ландшафта преобладали длительнопроизводные сообщества. В настоящий время состав лесов не изменился (рис. 1), преобладают елово-сосновые и еловые леса, на долю которых в ландшафте приходится 47%. Условно-коренные и короткопроизводные леса по состоянию на 1991 г. занимали 44% пло-щади, длительнопроизводные — 56%. В 2016 г. доля первых сократилась до 39%, а вторых — увеличилась до 61 % (см. табл. 2).
Клинско-Дмитровская гряда. В Истринском ландшафте (35) в пределах Клинско-Дмитровской гряды состав лесов весьма разнообразный — представлен 20 эпиассоциациями. По состоянию на 2016 г. его лесистость 46 %. Преобладают гемибореальные (субнеморальные) сосново-еловые папоротниково-кислично-широкотравные (эпиассоциация 26, занимает 40 % площади лесов) и еловые с оль-хой серой папоротниково-хвощево-кислично-широкотравные леса (эпиассоциация 25, ее доля в площади лесов 15 %). Отмеченные эпиассоциации являются фоновыми типами лесов северных и южных склонов Клинско-Дмитровской гряды, где приурочены к плоским пониженным участкам моренно-водно-ледниковых (200–240 м) и водно-ледниковых (180–200 и 200–230 м) равнин. Дубово-еловые папоротниково-широкотравные леса распространены в моренных (240–270 м) и моренно-водно-ледниковых ландшафтах, где занимают холмы, гряды и их скло-ны, в моренно-водно-ледниковых ландшафтах они тяготеют к высоким поверхностям, сложенным покровными суглинками, подстилаемыми мореной. Названия и индексы всех эпиассоциаций также представлены в табл. 1.Площадь остальных эпиассоциаций в ландшафте незначительная (рис. 1, б). Отметим, что в данных эпиассоциациях преобладают условнокоренные (3%) и короткопроизводные (58% общей площади лесов) сообщества. Длительнопроизводных сообществ с преобладанием мелколиственных пород значительно меньше (см. табл. 2). При этом, как видно на снимках сверхвысокого пространственного разрешения31, условнокоренные еловые сообщества в последнее время достаточно сильно пострадали от короеда-типографа. Согласно данным интерактивной карты санитарных рубок32 33, в основном это монодоминантные старовозрастные сообщества (возрастом порядка 100 лет) в северной части Клинско-Дмитровской гряды. Предприятия Комитета лесного хозяйства Московской области проводят здесь сплошную зачистку пораженных участков леса, в результате чего нарушаются экологические цепи и связи, меняются состав и структура лесного массива. Это неизбежно сказывается на его продукционных особенностях и важнейших средообразующих экологических функциях (Васильев и Чистов, 2016; 2017). От-дельно отметим, что фрагментарность лесов 25 лет назад была существенно ниже современной, в связи с этим ослабла устойчивость лесных сообществ к различным
вредным воздействиям (поражению вредителями и болезнями, в том числе короедом, химическим загрязнениям, ветровалам и пр.), снизились их средообразующие функции и природно-экологический потенциал ландшафта в целом. Теплостанская возвышенность. В Апрелевско-Кунцевском ландшафте (56) в пределах Теплостанской возвышенности представлено 17 эпиассоциаций. Лесистость ландшафта 55 % по данным 1991 г.; в 2016 г. она уменьшилась до 45%. Во всех эпиассоциациях преобладают длительнопроизводные сообщества, их пло-щадь почти в 1,5 раза больше площади короткопроизводных (см. табл. 2). Субнеморальные еловые и сосново-еловые эпиассоциации (24 и 26) занимают 12% площади леса, преобладает же широколиственно-хвойная эпиассоциация (44) — более 51%, доля остальных эпиассоциаций в лесопокрытой площади существенно меньше и более-менее одинаковая (рис. 1, в). По структуре и типологическому разнообразию леса Теплостанской возвышенности и Клинско-Дмитровской гряды принципиально различаются, в лесном покрове Апрелевско-Кунцевского ландшафта доминируют хвойные леса с участием широколиственных пород (дуба, липы, клёна) в составе лесных насаждений, в первом ярусе — сосново-дубовые и елово-дубовые древостои.
Для ландшафта характерна высокая фрагментарность лесов, площадь многих выделов не превышает 1 и даже 0,5 км2, как в 1991 г., так и в 2016 г. Антропогенное воздействие на данный ландшафт, очевидно, в будущем будет только возрастать, ввиду того что его территория входит в Новомосковский административный округ и может использоваться при реализации планов развития муниципальных образований ТиНАО34 (Васильев и Чистов, 2016).
Мещерская низменность. Лузгаринский ландшафт (97) Мещерской низменности небольшой по площади, и в нем произрастают 9 эпиассоциаций, представляющие хвойные бореальные леса. В ландшафте преобладают сосново-еловые леса: зеленомошные, кислично-чернично-вейниковые и вейниково-орляково-черничные эпиассоциации (8, 13, 15), занимающие до 89% от общей площади лесов (67% от площади ландшафта; рис. 4). Эти эпиассоциации широко представлены в ландшафтах Верхневолжской и Мещерской низменных равнин, где приурочены к волнистым и плоским моренно-водно-ледниковым равнинам (120–140 м), сложенным супесчаными, гравийно-каменистыми и песчаными отложениями, подстилаемыми мореной, характерны они и для водно-ледниковых зандровых равнин (110–120 м). Сосново-еловые вейниково-орляково-черничные леса, преобладая в Мещере, почти не выходят за ее пределы. Леса в целом старовозрастные, средний возраст составляет 90–100 лет. Примечательно, что в эпиассоциациях преобладают условнокоренные (10% площади леса) и короткопроизводные сообщества (75%), что свидетельствует о сохранившемся лесном покрове и высоком экологическом потенциале ландшафта. Лесные массивы компактные, и фрагментарность здесь не выражена. Интересно, что в пределах ландшафта практически не отмечено поражение деревьев короедом-типографом, поэтому древостой сохранился достаточно хорошо. Учитывая относительно небольшую антропогенную нарушенность и наличие старовозрастных лесных массивов, можно рекомендовать эту территорию в качестве охраняемого генофонда. Важна роль лесных массивов в заболоченных местностях — они участвуют в регулировании водного баланса и выполняют средостабилизирующую функцию. Помимо этого, они представляют ценность в силу своих продукционных возможностей, поэтому так важно сохранять условнокоренные леса гидроморфного ряда.
Анализ имеющихся материалов позволил провести картографический анализ динамики лесного покрова в пределах эталонных ландшафтов за последние 25 лет. Результаты анализа изменения состава лесов и соотношения площадей условнокоренных, коротко- и длительнопроизводных сообществ приведены в табл. 2. В Ермолинском ландшафте (1) Верхневолжской низменности преобладали (по состоянию на 1991 г.) длительнопроизводные сообщества, притом что площади условнокоренных и короткопроизводных лесов также были достаточно большими. За последние 25 лет общая площадь лесов сократилась на 14,48 кв.км, площади длительнопроизводных сообществ, в основном березовых, сократились на 3,44 кв. км, что составляет 24% от общей площади сокращения лесов. В целом среди эталон-ных ландшафтов области аналогичная ситуация отмечается в лесах Апрелевско-Кунцевского ландшафта (56), где отмечено максимальное сокращение площади ле-сов — на 90,37 км2 (общая лесистость уменьшилась на 10%). Здесь трансформация лесного покрова в большей степени затронула длительнопроизводные сообщества, площади которых сократились на 51,7 км2 (57% общей площади сокращения лесов), однако площади условнокоренных и короткопроизводных лесов стали меньше на 43%, что может свидетельствовать о снижении экологического потенциала ландшафта.В Истринском ландшафте (39) в пределах южного макросклона Клинско-Дмитровской гряды преобладают коренные и короткопроизводные сообщества, площадь длительнопроизводных лесов практически в 2 раза меньше. При этом площадь условнокоренных сообществ сократилась почти на 70%, а длительнопроизводных — лишь на 30% (рис. 2, а). Общая площадь лесов уменьшилась на 56,27 км2.
В Лузгаринском ландшафте (97) Мещерской низменности доля условнокоренных лесов наибольшая среди эталонных ландшафтов, при этом общая площадь условнокоренных и короткопроизводных лесов за последние 25 лет не изменилась и составляет порядка 86%. В структуре лесов преобладают хвойные старовозрастные насаждения. Общая лесистость ландшафта уменьшилась на 6% в основном за счет сокращения площади, занятой условнокоренными и короткопроизводными сообществами лесов (рис. 2, б). Итак, за последние 25 лет во всех эталонных ландшафтах отмечено сокращение площади лесов, при этом довольно сильное, что повлекло за собой изменения в лесистости эталонных ландшафтов в целом (табл. 3). Лесистость территории Московской области различна, в целом она составляет 42%. Ее максимум — 75% — отмечается на востоке области в пределах Лузгаринского ландшафта Мещерской низменности, к 2016 г. она сократилась на 6 %. Минимальные значения лесистости в границах рассмотренных ландшафтов — 55 и 53% — отмечаются в пределах Апрелевско-Кунцевского ландшафта Теплостанской возвышенности и Истринского ландшафта (к 2016 г. они уменьшились еще на 10 и 7% соответственно). Лесистость Ермолинского ландшафта достигала 64% и сократилась на 3% к 2016 г.
Таким образом, можно свидетельствовать об общей тенденции сокращения лесных площадей в различных природных условиях Московской области. При этом сохраняется хорошо выраженная закономерность — чем ближе к Москве, тем больше сокращается лесистость ландшафтов, а значит, снижается их природно-эко-логический потенциал. Значительная часть сокращенных лесов связана с санитар-ными рубками и вырубками для застройки территории (официально согласован-ной), а также с повреждением лесов в результате деятельности короеда-типографа. Все полученные результаты были занесены в единую базу геоданных, посвя-щенную экологическим функциям лесов Московского региона. Она реализована в среде ArcGIS и состоит из различных исследовательских блоков. Один из таких блоков представляет собой характеристику лесного покрова и его разнообразие в пределах эталонных ландшафтов. Важный критерий оценки леса — его породный состав, разнообразие и структура лесного покрова, а именно положение (статус) лесного сообщества в динамическом ряду и соотношение коротко- и длительно-производных лесов, т. е. степень нарушенности лесов в результате рубок и пожаров, деятельности короеда-типографа. Формирование базы геоданных на текущий мо-мент не завершено, поэтому в открытом доступе она не представлена.На основе созданной базы были подготовлены диаграммы структуры лес-ного покрова и различного рода геоизображения состояний лесов на 1991, 2005, 2014 и 2016 гг. Эта база послужила основой для контурного обновления средне-масштабной карты растительности Московской области, а также для комплексной оценки параметров лесного покрова с позиций охраны природы. Указанная оценка основана, в свою очередь, на экологических функциях, выполняемых каждой эпи-ассоциацией. Примеры, отражающие динамику сокращения лесного покрова, при-ведены на рис. 2. Подобные карты наглядно иллюстрируют изменения не только площади лесов в эталонных ландшафтах, но отображают динамику состава и со-отношения эпиассоциаций, что является хорошим индикатором всех процессов, происходящих в ландшафте.
4. Выводы
На основе карты растительности Московской области проанализировано состояние лесного покрова в эталонных ландшафтах, представляющих ландшафтные комплексы лесов четырех природных провинций:
1) Верхневолжской низменности,
2) Клинско-Дмитровской гряды,
3) Теплостанской возвышенности,
4) Мещерской низменности.
В пределах Верхневолжской низменности основную долю лесов занимают бо-реальные елово-березовые и елово-сосновые сообщества, на Клинско-Дмитровской гряде и в Мещерской низменности преобладают субнеморальные елово-сосновые леса, в пределах Теплостанской возвышенности — хвойно-широколиственные леса.По разнообразию лесного покрова и количеству эпиассоциаций выделяется Истринский ландшафт Клинско-Дмитровской гряды, наименее разнообразен лес-ной покров в пределах Лузгаринского ландшафта Мещерской низменности. В лесах Теплостанской возвышенности наряду с хвойными широко представлены широколиственные породы — дуб, липа, клен. Структура лесного покрова наиболее проста
Рис. 2. Изменение площади лесов за 1991–2016 гг. В пределах Истринского (а) и Лузгаринского (б) ландшафтов:заштрихованные области — сокращение площади лесов, подложка — космический снимок Land-sat 8, естественные цвета. Цифро-буквенные обозначения — номера эпиассоциаций: целые числа (7; 15) характеризуют условнокоренные, цифровой индекс (8,1; 13,2) — короткопроизводные с преобладанием хвойно-широколиственных пород, буквенные (13 а; 15 б) — длительнопроизводные леса с преобладанием мелколиственных пород.
в ландшафте Мещерской низменности и на 86 % представлена сообществами условнокоренных и короткопроизводных старовозрастных лесов.
Аналогичная ситуация, но с менее ярко выраженным преобладанием условно-коренных сообществ в ландшафте Клинско-Дмитровской гряды. Условнокоренные и короткопроизводные сообщества следует признать наиболее ценными лесами, однако сохранность лесов в пределах Клинско-Дмитровской гряды в последнее время вызывает все большие опасения. Длительнопроизводные осиново-березовые леса как наименее ценные по своим продукционным свойствам преобладают в ландшафтах Верхневолжской низменности и Теплостанской возвышенности. Леса Теплостанской возвышенности характеризуются также большой фрагментарностью в силу высокой антропогенной трансформации. Однако в пределах этих ландшафтов отдельные эпиассоциации еще не потеряли свою ценность и роль в со-хранении природно-экологического потенциала.
Лесистость напрямую определяет природно-экологический потенциал ландшафта, являясь одним из главных критериев его оценки. Если она становится ниже 45%, то резко снижается природоохранная ценность лесов (Котова и др., 2000). Важными критериями оценки лесного массива выступают также его породный состав, типологическое разнообразие и структура лесного покрова, положение лесных сообществ в динамических рядах эпиассоциаций (степень производности). Для выделения ценных и особо ценных лесов имеет значение также продукцион-ная способность сообщества, сохранность их средообразующих функций. По космическим снимкам системы Landsat проведена актуализация использованной карты растительности, что позволило определить динамику площадей лесных эпиассоциаций за последние 25 лет (с 1991 по 2016 гг.) и установить общую для Московской области тенденцию сокращения лесистости во всех эталонных ландшафтах. Заключительным этапом исследования стало обновление содержания карты растительности Московской области на территории изученных ландшафтов, созданы карты динамики площадей и изменения общей структуры лесов на примере Истринского и Лузгаринского ландшафтов (см. рис. 2), а также интегральной оцен-ки современного состояния лесов с учетом их экологической значимости, выполнения средообразующих экологических функций. Созданные карты являются основой для развивающегося космического мониторинга текущих изменений в лесном фонде отдельных регионов и страны в целом. Развитие дистанционных средств и методов наблюдения за лесами, геоинформационных технологий позволяют совершенствовать сопряженную обработку космических изображений, картографической информации и фактологических баз данных о лесах. Полученная оперативная объективная информация о состоянии лесов с учетом их средообразующих и других экологических функций должна находить свое отражение в природоохранной деятельности и в генеральных планах устойчивого развития регионов.
Литература
Анненская, Г. Н., Жучкова, В. К., Калинина, В. Р., Мамай, И. И., Низовцев, В. А., Хрусталева, М. А., Це-сельчук, Ю. Н., 1997. Ландшафты Московской области и их современное состояние. Изд-во СГУ, Смоленск.
Васильев, О. Д., Чистов, С. В., 2016. Исследование и картографирование средообразующих функций лесов Новой Москвы. Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка 60, 5, 128–133.
Васильев, О. Д., Чистов, С. В., 2017. Экологический каркас Московского региона и его сохранение. Геопоиск–2017: Материалы II Всероссийского конгресса молодых ученых-географов. Изд-во ТвГУ, Тверь, 338–354.
Исаев, А. С.,Коровин, Г. Н., 2003. Крупномасштабные изменения в бореальных лесах Евразии и методы их оценки с использованием космической информации. Лесоведение 2, 3–9. Карта растительности Московской области. М. 1 : 200 000 / Огуреева Г. Н (под ред.), 1996. Изд-во МГУ, Москва.
Котова, Т. В., Микляева, И. М., Огуреева, Г. Н., Суслова, Е. Г., Швергунова, Л. В., 2000. Опыт картографирования экологического состояния растительного покрова. Экология 5, 349–354. Национальный атлас России. Том 2. Природа и экология, 2004. ФГУП «Госгисцентр», Москва, 495 с.
Огуреева, Г. Н., Суслова, Е. Г., 1992. Принципы составления легенды среднемасштабной карты растительности Московской области. Экологические исследования в Москве и Московской области. Москва, 139–164.
Рычагов, Г. И., 2006. Общая геоморфология. Изд-во МГУ, Наука, Москва. Сочава, В. Б., 1972. Классификация растительности как иерархия динамических систем. Геоботаническое картографирование. Наука, Ленинград, 3–18.
Спиридонов, А. И., 1972. Краевые образования московского оледенения в центральных областях Русской равнины, в: Краевые образования материковых оледенений. Наука, Москва, 94–99.
Чистов С. В., 1993. Использование принципа рациональности природопользования в решении крупных программ Московского региона, в: Проблемы землепользования в связи с развитием малоэтажного жилищного строительства в Московском регионе. Москва, 49–54.
Статья поступила в редакцию 16 августа 2018 г.
Статья рекомендована в печать 18 марта 2019 г.
Контактная информация:
- Васильев Олег Дмитриевич — vasilyev_vizin@bk.ru
- Огуреева Галина Николаевна — ogur02@yandex.ru
- Чистов Сергей Владимирович — svchistov@mail.ru
Изменение площади лесов за 1991–2016 гг. В пределах Истринского (а) и Лузгаринского (б) ландшафтов:заштрихованные области — сокращение площади лесов, подложка — космический снимок Land-sat 8, естественные цвета. Цифро-буквенные обозначения — номера эпиассоциаций: целые числа (7; 15) характеризуют условнокоренные, цифровой индекс (8,1; 13,2) — короткопроизводные с преобладанием хвойно-широколиственных пород, буквенные (13 а; 15 б) — длительнопроизводные леса с преобладанием мелколиственных пород. — источник
- Рослесхоз передал правительству Москвы в пользование 30 тыс. га лесов вокруг столицы, входящих в лесопарковый защитный пояс.
 Все лесные участки, вошедшие в границы города Москвы, с 1 июля 2012 года переведены из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов» и отнесены к зелёному фонду г. Москвы.
Все лесные участки, вошедшие в границы города Москвы, с 1 июля 2012 года переведены из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов» и отнесены к зелёному фонду г. Москвы.- Экологи много лет просят расшифровать снимки из космоса хотя бы над территорией Московской области, чтобы сравнить, где 20 лет назад были леса и где остались сейчас. Этого не делают…
- ЛЕСОПАРКОВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ ПОЯС МОСКВЫ
- Урбанистическая катастрофа: Кто уничтожает леса в Подмосковье?
 Зиму 1941 г. наши соотечественники встретили в отчаянной борьбе против фашистских оккупантов. Армия Третьего Рейха и его союзников оставляла после себя сожжённые села, уничтожала мирных жителей Советского союза. В это время в концентрационных лагерях на советских военнопленных и арестантах ставили медицинские эксперименты и заставляли до полного истощения работать на частных заводах, питавших немецкую фашистскую машину.
Зиму 1941 г. наши соотечественники встретили в отчаянной борьбе против фашистских оккупантов. Армия Третьего Рейха и его союзников оставляла после себя сожжённые села, уничтожала мирных жителей Советского союза. В это время в концентрационных лагерях на советских военнопленных и арестантах ставили медицинские эксперименты и заставляли до полного истощения работать на частных заводах, питавших немецкую фашистскую машину.
Планы гитлеровцев предусматривали, что от всего населения СССР должно было выжить не более 20-30 миллионов, необходимых для обслуживания новых господ. Остальным была уготована смерть от оружия или от голода, который фашистские власти предусмотрели в рамках экономического плана 23 мая 1941 г… — читать дальше в источнике https://www.facebook.com/groups/1749293792027681/permalink/2838210823135967/
Цитата по почти в тему:
Когда рубят лес, спасая его от короеда, виновных и вовсе не найдешь. Что характерно: эта умная тварь грызет в основном леса, не поставленные на кадастровый учет. В Жуковском, например, напал на целый массив, готовившийся под застройку, и причем, в тот момент, когда в Подмосковье объявили о полной и окончательной победе над вредителем.
Напомним: вспышка короеда-типографа в Московской области произошла после засушливого сезона в 2010 году. Первоначально было признано, что он уничтожил 60 тысяч гектаров лесов. Это примерно четверть от общего масштаба хвойных лесов региона. Правительство РФ оперативно выделило деньги на борьбу с вредителем. Однако борьба началась только с 2012 года. На тот момент было поражено уже свыше 117 тысяч га леса, короед стремительно распространялся по ближнему Подмосковью, локализуясь в непосредственной близости от строящихся ЖК. Остановить массовое размножение и вернуть численность короеда-типографа в его естественные значения лесному хозяйству области удалось только в 2014 году. В это время завершился и дележ земель в радиусе 5-20 км от МКАД между ведущими застройщиками Москвы и области. — источник
«По делам [плодам] их узнаете их». (Матфей 7:20)
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН
Президент России
Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие.
Обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, современных архитектурных решений, на использовании цифровых технологий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммунального хозяйства.
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ВОРОБЬЕВ
Губернатор Московской области
Наш президент уделяет большое внимание вопросам формирования комфортной городской среды и подчеркивает, что это важно делать для жителей и при участии жителей. В Подмосковье мы взяли за правило проводить голосование по проектам благоустройства. Люди сами могут решать, как будет выглядеть любимый двор, детская площадка или сквер рядом с домом. Это небольшие пространства, но именно они должны создавать уют, поднимать настроение и радовать глаз.
источник — https://50.gorodsreda.ru/

О разрушении противоэпидемического комплекса
К сожалению, это не случайность, а прямой результат многолетней политики региональных властей, направленной на системную монетизацию (а, по факту, на системное ослабление и подрыв) противоэпидемического комплекса столицы Российской Федерации, созданного ещё в советский период.
1. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МОСКВЫ КАК ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС
Её создавали люди, имевшие за плечами трагический опыт войн 20-го века и связанных с ними эпидемий, унёсших десятки миллионов жизней. Эти люди не понаслышке знали, что такое тиф, туберкулёз, грипп, чума, холера, дизентерия, оспа, сибирская язва, ящур, малярия, полиомиелит и отлично понимали, какой огромный урон эти инфекции способны нанести обществу и государству.
Достаточно вспомнить, что в военных столкновениях Гражданской войны 1918-1921 годов страна потеряла почти в три раза меньше своих граждан, чем от эпидемий того же периода (2,5 миллиона человек против 6,5-7 миллионов). А, к примеру, общие потери человечества от знаменитой «испанки» (пандемии гриппа, длившейся с 1918 по 1920 годы) достигли, по ряду оценок, 100 миллионов человек и намного превысили потери от двух мировых войн, вместе взятых (https://ru.wikipedia.org/wiki/).
Способность эффективно противостоять не только военному, но и эпидемическому шоку — вот те фундаментальные требования, которые руководство советской державы всегда предъявляло к своей столице — Москве. И они жёстко проводились в жизнь, воплощаясь в соответствующих санитарно-эпидемических правилах и нормах (СанПиНах) и неразрывно связанных с ними инфраструктурных и градостроительных решениях, повышающих сопротивляемость города потенциальным инфекционным атакам. Достаточно вспомнить, к примеру, основополагающее постановление Правительства Союза ССР «О составлении и утверждении проектов планировки и реконструкции городов и других населённых мест в СССР» от 27 июня 1933 год
Три главных «нет» исповедовали создатели советской Москвы: «нет» антисанитарии в любых её проявлениях («чистота — залог здоровья!»), «нет» дефициту воды, зелени и свежего воздуха и, разумеется, самое категорическое «нет» скученной, плохо проветриваемой и лишённой нормальной инсоляции застройке («солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!»).
Как следствие, три надёжных щита охраняли санитарно-эпидемическое благополучие главного региона СССР и его жителей: собственно медицинский, водно-лесопарковый и градостроительно-коммунальный.
Это был целостный комплекс мощной противоэпидемической защиты, все элементы которого были тесно увязаны и взаимно дополняли друг друга. Можно со всей ответственностью утверждать, что и облик современной Москвы, на 80 процентов сложившийся именно в советский период, до сих пор в значительной степени обусловлен инфраструктурой её противоэпидемической «брони», создававшейся десятилетиями.
Уже в 30-е-40-е годы были организованы современные инфекционные отделения при крупнейших московских больницах и построены новые специализированные инфекционные больницы — взрослые и детские, а также развёрнута обширная сеть санэпидстанций всех уровней — от городских до районных. Кроме того, в каждом столичном районе были открыты банно-прачечные комплексы, одновременно выполнявшие функцию пунктов санобработки населения на случай войны. Таким образом, каждому москвичу обеспечивалась безусловная доступность базовых средств гигиены и борьбы с инфекциями как в мирное, так и в военное время.
Безопасность водоснабжения Москвы и области гарантировалась уникальной системой каналов и водохранилищ и их ЗСО (зон санитарной охраны), где хозяйственная деятельность была запрещена либо строго ограничена, а также комплексом строгих мер по предотвращению бактериального и химического загрязнения больших и малых рек, озёр и прудов. Проблему эффективной очистки московских канализационных стоков решали Кожуховская, Люблинская и Курьяновская станции аэрации, построенные с 1929 по 1950 годы. Примерно в этот же период современные очистные сооружения получили большинство областных городов и посёлков, что принципиально улучшило санитарное состояние водных объектов Подмосковья и, как следствие, всего региона в целом. Определяющими законодательными актами в этом отношении стали Постановления ЦИК и СНК Союза ССР «О санитарной охране водопроводов и источников водоснабжения» от 17 мая 1937 года и СНК РСФСР «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения» от 23 мая 1941 года (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4315.htm).
Особое внимание власти уделяли чистоте воздушного бассейна, что для крупнейшего советского мегаполиса, имеющего континентальное расположение, было критически важно. Так, к примеру, уже Генпланом 1935 года за Москвой закреплялось 168,5 тысяч га зелёных территорий, включавших в себя столичные и подмосковные леса, парки, лесопарки и скверы. Именно тогда начали формироваться её «зелёные лёгкие» — знаменитый Лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП), который охватывал город со всех сторон и широкими клиньями сходился к Кремлю. Поэтому даже в самые жаркие летние дни столица эффективно проветривалась и её жители могли безопасно дышать в любых районах, включая центральные. В 1960 году площадь ЛПЗП была увеличена до 172,5 тысяч га, а Генпланом Москвы 1971 года предусматривалось его дальнейшее увеличение до 275 тысяч га и расширение его границ на расстояние до 50 км от МКАД. Важнейшую роль в создании и последующей защите ЛПЗП от любых посягательств сыграли Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 10 июля 1935 г. № 1433 и Совмина СССР от 14 сентября 1948 г. № 3431, а также объединённое решение Московского городского и Московского областного советов депутатов трудящихся «Об охране зелёных насаждений на территории резервных земель и лесопаркового защитного пояса гор. Москвы» от 13 февраля 1948 года (https://base.garant.ru/14101707/).
Были ликвидированы кварталы скученной застройки барачного типа как главные факторы риска возникновения и распространения эпидемий. Массовое жилищное строительство велось в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами, предусматривавшими жёсткие ограничения по плотности и высотности застройки и устанавливавшими такие расстояния между зданиями, которые обеспечивали достаточную инсоляцию и проветриваемость квартир (прямой солнечный свет и хорошая вентиляция губительны для туберкулёзной палочки и других опасных инфекций), а также возможность обустройства больших зелёных дворов, создававших здоровый и комфортный микроклимат. Именно поэтому основу жилого фонда Москвы в советское время составляла малоэтажная застройка, утопающая в зелени: свыше 20 тысяч жилых зданий имели этажность от 3 до 5 этажей и лишь 4,5 тысячи от 9 до 22 этажей (https://www.irn.ru/articles/8489.html).
Широкие улицы и проспекты, помимо выполнения функций транспортных артерий, одновременно служили дополнительными коридорами для свободной циркуляции воздушных масс, рассеивавших и нейтрализующих вредные выбросы. Ни о каких плотно стоящих жилых башнях высотой в 25-50 этажей с узкими проездами и дворами-колодцами по принципу «окно в окно» тогда и речи быть не могло, такие «проекты» были бы немедленно расценены как диверсия, а их авторы немедленно причислены к «врагам народа». Те же градостроительные стандарты, разумеется, применялись и при формировании нового облика подмосковных городов: здесь также полностью доминировала разреженная малоэтажная застройка с максимальным озеленением.
Концепция столицы СССР как социалистического «города-сада» в противовес капиталистическому «городу-аду», тотально застроенному железобетонными высотками и задыхающемуся от пробок, стала практическим воплощением идеологии победившего социализма в градостроительной сфере. Лозунг «Москва должна развиваться!» понимался руководством страны и города прежде всего как необходимость создания ещё более здоровой, гармоничной и эпидемиологически безопасной среды, соответствующей самым высоким мировым стандартам. Не случайно Гепланом 1971 года в Москве запрещалось строительство новых промышленных предприятий и предусматривалось дальнейшее увеличение площади парковых и других озеленённых территорий. Как следствие, в 80-е годы Москва достигла оптимального показателя обеспеченности такими территориями, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) ООН: 50 кв. метров на человека в границах города и 300 кв. метров на человека в пригороде
Кроме того, был установлен «потолок» количества постоянно проживающих в столичном регионе, не допускавший ухудшения его образцового санитарно-эпидемиологического статуса: Генпланом 1935 года он был установлен для Москвы в 5 миллионов жителей, для Подмосковья — в 3,5 миллиона (Генплан 1971 года: Москва 7 миллионов жителей, Подмосковье — 5 миллионов). То есть, учитывая специфику главного мегаполиса СССР (его континентальное расположение, исторически сложившуюся радиально-кольцевую структуру, обеспеченность медицинскими, природными, теплоэнергетическими и иными ресурсами) — не более 12 миллионов человек на весь регион в целом.
Также была создана эффективная система раздельного сбора и утилизации бытовых и производственных отходов. Бытовые отходы сортировались ещё на стадии домохозяйств: для пищевых отходов во дворах устанавливались специальные баки, непищевые — бумагу, стеклопосуду, тряпьё, металлы и т.п. — принимали специальные пункты приёма вторсырья, выплачивающие сдатчикам деньги по установленным государством расценкам. То, что не могло быть переработано во вторсырьё, отправлялось в отдельные мусорные баки, также устанавливаемые во дворах. Промышленные отходы строго учитывались и, в зависимости от класса опасности, утилизировались на специализированных предприятиях. То же происходило с медицинскими и биологическими отходами. За несоблюдение правил обращения с такими отходами предусматривалась ответственность вплоть до уголовной. В итоге на подмосковные полигоны вывозился лишь мусор, безопасный для окружающей среды.
Как видим, Москва получила от советских поколений настоящую противоэпидемическую «броню», уникальное по масштабу и сложности санитарно-эпидемиологическое наследие, почти сто лет надёжно защищавшее её от инфекционных угроз.
Очевидно также, что в связи с новой мировой эпидемической волной (которая, согласно экспертным прогнозам, только поднимается и продолжится в ещё более опасных для человечества формах ), сегодняшнее состояние этого наследия имеет для нас фатальное значение, является в прямом смысле слова вопросом нашей жизни и смерти. Нам всем сейчас, как воздух, нужны его максимально честная ревизия и объективное понимание того, насколько оно и дальше способно нас эффективно спасать и защищать.
Предлагаю провести такую ревизию — хотя бы в самых общих чертах. И заодно дать оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, которые уже много лет непосредственно отвечают за его сохранность и поддержание на необходимом функциональном уровне. Это тем более уместно, что мэр Москвы Собянин С.С. и губернатор Московской области Воробьёв А.Ю. с 16 марта 2020 года являются членами Комиссии по борьбе с распространением короновируса (Собянин — в качестве первого зампреда) — то есть, наряду с Президентом и премьер-министром РФ, определяют национальную стратегию России в войне с пандемией и нашу способность ей эффективно противостоять (https://www.interfax.ru/russia/699259).
2. РАЗРУШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЩИТА
На момент назначения Собянина на должность мэра Москвы (октябрь 2010 года) в столичных стационарах имелись 82 000 бюджетных койко-мест. С апреля 2011 по декабрь 2019 года, в результате инициированной им т.н. «коренной реформы московского здравоохранения» (она же «оптимизация») их количество уменьшилось почти вполовину, т.е. до 46 807 койко-мест — и всё это на фоне взрывного (в 2,4 раза!) увеличения территории Москвы, случившегося по инициативе того же Собянина в июле 2012 года. Соответствующему сокращению подверглись и койко-места в инфекционных стационарах, которые мэрия сочла наименее нужными для города (https://test.gazeta.ru/social/2012/08/15/4727877.shtml). Так, согласно данным Департамента здравоохранения Москвы, только за период с 2011 по 2014 год количество инфекционных коек для взрослых было сокращено в 1,5 раза — с 4617 до 3084. Количество инфекционных коек для детей за этот период было сокращено в 1,6 раза, с 2556 до 1566 (https://tass.ru/obschestvo/2525899). По данным Росстата, общее сокращение числа инфекционных койко-мест в Москве с 2011 по 2019 годы оказалось почти двукратным (в 2011 году их было 4823, в 2018 осталось лишь 2661). Апофеозом «оптимизации» инфекционных стационаров Москвы стали закрытие крупнейшей столичной инфекционной больницы №3 в Курьянове, предназначенной как раз для лечения пациентов с особо опасными инфекциями, а также двух детских инфекционных больниц №8 и №12 (https://rex-net.livejournal.com/3000483.html)
Тысячи наиболее опытных медиков-инфекционистов были уволены, оказались уничтожены лучшие коллективы, складывавшиеся десятилетиями. Земля под снесёнными больничными зданиями была отдана под коммерческую застройку — офисно-складской центр, гостиницы и т.п.
Заодно «была уничтожена и система безопасности, которая готовила наши медучреждения к чрезвычайным ситуациям. Эта система предполагала, что каждая больница имеет план развёртывания дополнительных коек, в том числе карантинных, в случае эпидемии. Иногда эти дополнительные объёмы превышали обычные объёмы госпитализации в несколько раз. Но, оправдывая преступную оптимизацию, нам заявляли, что в наше время полноценные больницы вообще не нужны, а нужна в основном амбулаторная служба…»
По словам ректора Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбековой, «в Москве были приняты бездарнейшие решения, которые перевели финансирование инфекционных коек, инфекционных больниц и скорой медпомощи на ОМС. Эти виды помощи никогда не могут так финансироваться! Что это значит? Это значит: есть больной — тебя финансируют, нет больного — не получаешь ничего. Соответственно, учреждение вынуждено сокращаться. Этого категорически делать было нельзя! С советских времен у нас всегда были резервные койки, не только инфекционные. Всегда службы скорой помощи и инфекционная служба, вне зависимости от того, есть больные или нет, должны находиться в режиме ожидания. Мы не можем их привязывать к системе ОМС, вот поэтому сегодня мы имеем серьезные проблемы…» (https://federalcity.ru/index.php?newsid=8050).
Важно отметить, что столь поспешное урезание медицинской (включая собственно инфекционную) инфраструктуры Москвы в угоду «экономии средств ОМС» и частным коммерческим интересам происходило в разгар пандемий т.н. «свиного» и «птичьего» гриппов и постоянно усиливающихся вспышек т.н. «атипичных пневмоний», показавших высокий уровень летальности и способность к быстрому распространению — то есть именно в тот период, когда от мэрии требовались совершенно противоположные действия и решения. Общий итог собянинской реформы столичной медицины известен: закрыто более 60 больниц и 400 поликлиник, уволено свыше 20 тысяч опытных и знающих врачей
Громкая риторика мэрских СМИ об «успехах» медицинской реформы в Москве призвана скрыть очевидный факт: квалифицированная, своевременная и бесплатная медицинская помощь (в том числе противоэпидемическая!), гарантированная Законом всем москвичам, многим из них стала практически недоступна. Как следствие, в городе, по данным ряда независимых экспертов и свидетельствам самих врачей, резко выросло число граждан с хроническими заболеваниями, вызванными некачественным лечением или его отсутствием как таковым — а ведь, как наглядно показала сегодняшняя пандемия, именно эти люди наиболее уязвимы при инфекционных атаках.
Ещё более удручающая картина наблюдается в области. 5 мая 2020 года губернатор Подмосковья Воробьёв выступил с заявлением о необходимости экстренного увеличения числа инфекционных коек и сообщил о срочном переоборудовании в covid-госпиталь торгового центра «Крокус-Экспо» и строительстве такого же госпиталя в парке «Патриот», а также о том, что властями ведётся «поиск врачей для лечения пациентов» Ранее им было принято решение о срочном перепрофилировании в инфекционные 16 областных больниц, что, как видим, оказалось мерой явно недостаточной (https://360tv.ru/news/tekst/k-koronavirusu-gotovy/). Но он почему-то ни слова не сказал о том, как в течении всех 7 лет своего губернаторства жёстко «оптимизировал» подмосковную медицину, последовательно сокращая количество медицинских учреждений и число медработников. Не сказал он и о том, как в рамках политики «оптимизации медучреждений и экономии средств ОМС» создал ситуацию, при которой многим больным даже с острыми приступами (включая инфекционных!) теперь необходимо добираться до ближайшего медучреждения десятки километров — причём зачастую ночью, по разбитым и не освещённым дорогам и за свой счёт.
«С января 2016 года скорая помощь в городе Дубна везет больных с острым инсультом в город Дмитров (около 50 км) по извилистой двухполосной дороге, которая в темное время суток практически не освещена. Больных с острым инфарктом теперь везут в Долгопрудный, до которого более 80 км, из которых 50 км по той же дороге, что и в Дмитров — т.е. с поворотами и обгонами, без света в темное время суток… Это значит, что количество населенных пунктов, где полностью отсутствует доступ к медицинской помощи, может вырасти ещё больше (сейчас их 300). Но ведь это совсем не страшно! Ведь, по словам областного министра здравоохранения, федеральные нормативные документы рекомендуют создавать в малонаселенных пунктах так называемые домовые хозяйства с аптечками. «Мы обучаем азам первой помощи людей, которые не имеют образования в сфере здравоохранения. Именно они берут на себя заботу о пострадавших на тот период, пока специалисты находятся в пути. Также мы обеспечиваем этих неравнодушных граждан необходимой аптечкой первой помощи. На сегодняшний день обучено уже 250 жителей Московской области…» Может, тогда имеет смысл снабдить аптечкой всех жителей Подмосковья? Вот только непонятно тогда, зачем нам вообще нужно такое здравоохранение и чиновники, им управляющие?»
В 2015 году жители Московской области направили петицию на имя Президента РФ, в которой прямо обвинили губернатора Воробьёва в развале подмосковной медицины. «Губернатор просто «забыл» про право жителей на доступное и бесплатное медицинское обслуживание. В одобренных им проектах по строительству новых микрорайонов застройщикам разрешается ограничиться небольшим платным медицинским центром вместо строительства новых поликлиник и увеличения койко-мест в стационарах. Большинство медицинских учреждений уже сейчас работают на пределе и попасть к профильным специалистам практически нереально. Но разве может губернатор ради «каких-то» больных людей уменьшать прибыль застройщиков!..» (http://mossovet.tv/posts/3441)
Общую оценку произошедшего дала вице-премьер Татьяна Голикова, назвавшая итог реформы здравоохранения в регионах «ужасным» (https://www.m24.ru/news/obshchestvo/25122019/101836).
Как известно, героизм одних часто является оборотной стороной преступлений других. Бесспорный героизм десятков тысяч медиков столичного региона, работавших и продолжающих работать в чрезвычайных режимах и ежеминутно рискующих жизнями, своей оборотной стороной имеет преступную некомпетентность людей, называющих себя московской и подмосковной властью. Именно эти люди в погоне за сиюминутной выгодой, лицемерно называемой «экономией бюджетных средств», много лет подряд методично «оптимизировали» — а, по факту, громили — великое наследие Семашко, Сысина, Гамалеи, Заболотного, Соловьёва и многих других выдающихся организаторов и подвижников отечественной медицины. Но ведь именно благодаря этому наследию (вернее, его недоразгромленным остаткам) Москва и область смогли избежать сегодня на порядок больших жертв (https://svpressa.ru/society/article/261399/vdimnewritm/, https://rossaprimavera.ru/news/f5d67bbe).
3. РАЗРУШЕНИЕ ВОДНО-ЛЕСОПАРКОВОГО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЩИТА
Как уже говорилось, безопасность водоснабжения Москвы и области гарантировалась уникальной системой каналов и водохранилищ и их ЗСО (зон санитарной охраны), а также установлением водоохранных зон и режимов для всех водных объектов региона, запрещающих либо строго регламентирующих здесь любую хозяйственную деятельность. Эти зоны и режимы были призваны исключить их массовую застройку и загрязнение (прежде всего бактериальное, химическое и проч.), а также защитить от уничтожения особо ценные пойменные территории, прибрежные луга и лесные массивы, и т.д.
Соответственно, чистоту воздушного бассейна обеспечивал неприкосновенный лесопарковый защитный пояс (ЛПЗП) общей площадью 172,5 тысяч га, имевший свои охранные режимы и предусматривавший ответственность за их нарушение вплоть до уголовной.
К сожалению, именно годы собянинско-воробьёвского «руководства» стали поистине переломными в судьбе водно-лесопаркового щита столицы и области — причём переломными в самом худшем, терминальном значении этого слова. Да, разумеется: и в прежние времена (начиная с бандитских 90-х) на берегах наших водных объектов и в их водоохранных зонах, а также на территориях ЛПЗП случались беззакония, связанные с их самоуправными захватами, огораживаниями, вырубками и вовлечением в коммерческий оборот их отдельных участков. И уже тогда государственные надзорные органы (природоохранные прокуратуры, Росприроднадзор) им, как правило, не препятствовали либо делали это чисто символически, поскольку знали, что за такими преступлениями чаще всего стоят люди власти либо аффилированные с ними коммерсанты и бандиты. Но, тем не менее, происходящее не носило тотального, всеобъемлющего, системного характера, а было, по словам нынешнего руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова, «следствием коррупции местных администраций» низового и среднего звена. Все причастные к таким захватам ясно отдавали себе отчёт в том, что занимаются криминалом и несут в связи с этим определённые риски, в том числе имущественные.
Но именно при Собянине и Воробьёве криминал, направленный на коммерческое «освоение» столичного водно-лесопаркового щита, стал тотальным, т.е. был возведён в ранг закона, государственной политики и важнейшего экономического приоритета. Именно их усилиями были пролоббированы решения, фактически «обнуляющие» важнейшие природоохранные и санитарно-эпидемиологические нормы (главным образом — советские), именно с их активнейшей подачи системный интерес к монетизации этой части советского противоэпидемического наследия проявила крупнейшая финансово-строительная олигархия.
Последствия такого «государственно-антигосударственного» подхода оказались поистине катастрофичны. По результатам спутникового обследования, проведённого Центром экомониторинга ОНФ в рамках Президентского Года экологии, от прежних 172,5 тысяч га Лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП) Москвы сегодня осталось менее 60 тысяч га — причём преимущественно больных и деградирующих лесных и парковых территорий, которые продолжают интенсивно вырубаться и застраиваться.
Эти данные были озвучены в марте 2016 года координатором ОНФ депутатом Госдумы Владимиром Гутенёвым на Международном форуме «Эко Грин» в Москве. Он отметил также, что почти трёхкратное сокращение ЛПЗП произошло на фоне взрывного и практически неконтролируемого роста населения Москвы см. с 12 мин. 40 сек.). На каждого москвича сегодня приходится уже менее 20 кв. метров зелёных территорий вместо прежних 50 кв. метров в советское время (в границах МКАД).
По данным прокуратуры Московской области, за прошедшие 25 лет из 239,3 тыс. га всех подмосковных лесов уже безвозвратно утрачено (т.е. капитально застроено) 68,6 тыс. га. Данные экологов выглядят ещё катастрофичней: по их оценкам, область лишилась уже свыше 166 тыс. га своих лесных богатств. «Ушлые граждане и коррумпированные местные власти нахально отхватили у государства значительную часть его собственности и, не моргнув глазом, продолжают самоуправное строительство в лесозащитном поясе Москвы. Прихваченный лес сотнями гектаров рубится ради новых бетонных джунглей, в которых давно нечем дышать. Пригородные леса уже трудно назвать лесами в полном смысле этого слова. Они застраиваются дачными посёлками…» https://pasmi.ru/archive/214844/).
Количество преступных схем монетизации «зелёных лёгких» мегаполиса, изобретённых столичными и областными чиновниками, подсчёту не поддаётся, но, пожалуй, наиболее циничная из них — т.н. «лесная амнистия», пролоббированная на федеральном уровне и оформленная в виде отдельного федерального закона, прямо легализующего коррупционное расхищение остатков ЛПЗП. Согласно ему, полное прощение и право оформить украденные земли в собственность получили свыше 300 тысяч (!) самых наглых и дерзких лесозахватчиков.
«Хотя идея воссоздания «зелёного щита» пришла из наиболее страдающего от коммерческой застройки лесов региона — Московской области, именно там-то его создание не начато до сих пор. Более того, одновременно была пролоббирована другая законодательная инициатива — т.н. «лесная амнистия». Печально известный 280-й ФЗ позволяет вывести из Государственного лесного реестра земельные участки лишь на том основании, в Госреестре недвижимого имущества (кадастре) на том же месте уже зарегистрирован участок, предназначенный под другие, не связанные с лесом нужды. Закон вызвал бурю возмущения. Негативный отзыв, указывающий на его коррупциогенность, дала даже ФСБ. И, тем не менее, «лесная амнистия» была принята 29 июля 2017 года — года, который, что символично, Путин объявил «Годом экологии». Неофициальным лицом кампании за «лесную амнистию» стал выходец из крупного бизнеса губернатор Андрей Воробьев. Свою позицию о проблеме интересов бизнеса и охраны окружающей среды он ёмко выразил фразой «журавлями сыт не будешь», когда публично отчитывал главу Талдомского района за то, что тот не способствует застройке земель «Журавлиной родины» – охраняемого ЮНЕСКО природного комплекса. Не менее ёмко и честно сформулировал Воробьев и подход, который современные власти исповедуют в отношении земель: «девиз простой – должен работать каждый клочок земли» . При этом «работа» понимается очень узко, в строго экономическом ключе: лишь то, что приносит прибыль…» — пишет известный химкинский эколог, член Общественной палаты Московской области Алексей Дмитриев
По данным, неоднократно приводившимся экологической общественностью, от 60 до 90 процентов берегов московского региона уже захвачено и застроено при самом активном соучастии властей. «70% земель у воды уже имеют владельцев» — считает Андрей Федака, заместитель гендиректора Vesco Group. По данным Penny Lane Realty, практически все территории поселков у воды расположены непосредственно в водоохранных зонах. «Жильё у воды составляет 17% в общем объёме предложений недвижимости и далеко не факт, что у всех всё сделано в соответствии с законодательством», – считает директор по развитию компании «Промсвязьнедвижимость» Армен Маркосян. Единой статистики захватов в Московском регионе нет. Как отметили в «Мосводоканале», поскольку разрешения на строительство дают местные администрации, такая статистика, по идее, должна быть у них(!). Ст.6 Водного кодекса предписывает, что полоса шириной 20 метров от уреза воды должна быть свободна для проезда и прохода. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.4.2625-10 не допускают размещение земельных участков под дачное, садово-огородное и жилищное строительство на расстоянии менее 100 м от уреза воды источника питьевого водоснабжения. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 м от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка. Земельный кодекс прямо запрещает приватизацию участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ. Но на практике законодательство не соблюдается, самые «вкусные» места у воды продаются, покупаются и огораживаются»
«Самыми вкусными местами» (т.е. наиболее коммерчески привлекательными) оказались источники питьевого водоснабжения Москвы и их санитарно-защитные зоны (ЗСО), в том числе даже те пояса их санитарной охраны, где любые хозяйственная деятельность и строительство законом запрещены. Они также подвергаются массовым захватам и оформляются чиновниками в долгосрочную аренду или в собственность, в их границах стремительно вырастают всевозможные объекты капитального строительства — от элитных коттеджных посёлков и яхтенных клубов до целых микрорайонов многоэтажной жилой или офисной застройки. Их владельцы, пользуясь попустительством коррумпированных властей, вовсю экономят на оборудовании дорогостоящих систем очистки канализационных стоков и зачастую сбрасывают их непосредственно в водохранилища. Как следствие, качество воды в них постоянно ухудшается. Этот факт подтвердили исследования, проведённые учёными РАН в отношении ряда подмосковных водохранилищ — в частности, Иваньковского
Кроме того, из-за масштабной вырубки прибрежных лесных массивов, являющихся естественными гидрорегуляторами, происходит их обмеление — так считает заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Евгений Веницианов.
Ситуация с угрозой источникам водоснабжения столицы РФ оказалась настолько серьёзной, что 13 февраля 2020 года Президентом РФ был утверждён ряд поручений по их охране, предписывающих приостановить сооружение новых объектов капитального строительства в их ЗСО. Однако на самых резонансных стройках работы продолжаются до сих пор, а застройщики и «крышующие» их подмосковные чиновники на президентские поручения либо наплевали, либо сделали вид, что они отменены.
Именно так, в частности, происходит с массовой застройкой ценнейших пойменных земель Москвы-реки на западе мегаполиса (https://www.nakanune.ru/news/2020/03/02/22566907/,
Ну, и своебразной «вишенкой на торте» прозвучало февральское заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, назвавшей грязную воду одним из главных факторов заражения короновирусной инфекцией (https://ria.ru/20200226/1565250133.html). Как в этом контексте выглядят власти Москвы и Подмосковья с их сугубо коммерческим (а, по факту, сугубо коррупционным) подходом к вопросу обеспечения водной безопасности столицы РФ — объяснять не приходится.
4. РАЗРУШЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-КОММУНАЛЬНОГО ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОГО ЩИТА
Его основу, как мы уже упоминали, составляла разреженная малоэтажная застройка с максимальным озеленением, ставшая итогом 70-летнего применения в градостроительной сфере советских СанПиНов (санитарных правил и норм). Именно такая застройка плюс запрет на дальнейшее расползание города вширь (ограничение числа постоянно проживающих в границах Москвы до 7 миллионов человек и в границах области до 5 миллионов человек) когда-то гарантировали главному мегаполису СССР высочайшую устойчивость к эпидемическим рискам.
Мэр Москвы Собянин, впервые заняв должность в октябре 2010 года, ясно и недвусмысленно обозначил свои приоритеты: «усиление конкурентоспособности Москвы через повышение её инвестиционной привлекательности». Эти слова он затем произносил многократно, повторяя, как мантру, на различных представительных форумах и заседаниях.
Многие профессионалы в сфере урбанистики, имеющие перед глазами опыт наиболее успешных мировых мегаполисов, ждали от правительства Москвы вполне определённых действий и решений: например, приоритетной поддержки инновационных отраслей, предприятий малого и среднего бизнеса, сфер культуры, туризма и досуга, экологии, образования, медицины и т.п. Ведь именно эти сферы и отрасли, напрямую связанные с качественным ростом человеческого и производственного капитала, являются общепризнанными драйверами устойчивого развития современных городских агломераций, обеспечивают их подлинную конкурентоспособность в стремительно меняющемся мире (https://www.kommersant.ru/doc/3533278,
Но, как вскоре выяснилось, новый мэр и его команда имели в виду совсем другое. Они сделали главную ставку на стройкомплекс, т.е. «самую успешную отрасль вчерашнего дня», которая в современном конкурентоспособном мегаполисе 21 века ведущей не может быть по определению. Но именно ей и было предписано стать главным драйвером и локомотивом московской экономики.
Бизнес-логика собянинской команды, занявшей высокие кабинеты на Тверской, 13, была предельно проста: если есть сверхдорогие столичные земля и недвижимость, пользующиеся стабильным коммерческим спросом и приносящие от 500 процентов прибыли на вложенный капитал, то к чему всерьёз заморачиваться какими-то инновациями, малыми и средними бизнесами, экологией и прочей «мелочёвкой»? Вот он, универсальный ключ к решению всех проблем на долгие годы: взрывное наращивание сверхплотной коммерческой застройки Москвы и обслуживающей её транспортной и коммунальной инфраструктуры — и, как следствие, извлечение из этого максимально быстрой и высокой прибыли (https://realty.interfax.ru/ru/experts/interviews/57376/, .https://moscowtorgi.ru/news/stroitelstvo/8843/,
Абсурдность таких планов была очевидна всем специалистам, имеющим сколько-нибудь профессиональное отношение к развитию Москвы. Главный вопрос, которым они задавались, лежал на поверхности: а где, собственно, намерен развернуться собянинско-хуснуллинский строительный локомотив с его заявленными триллионными оборотами?! Ведь Москва — не глухая тайга и не приволжская степь, ВСЯ её земля, предназначенная для жилой и прочей застройки, УЖЕ ЗАСТРОЕНА, причём 80% этой застройки — добротные здания советской эпохи, не выработавшие и половины своего эксплуатационного ресурса и имеющие своих законных собственников. Даже если предположить, что мэрия намерена выкупить и отдать под массовую коммерческую застройку территории пустующих промзон — это всё равно не решит проблему «разгона» столичной экономики, а лишь добавит новые. Ведь ожидаемый довесок в десятки миллионов новых квадратных метров (и, соответственно, в миллионы новых жителей и автомобилей) окажется неподъёмным для Москвы, и так уже перегруженной и перенаселённой в результате криминальной «точечной» застройки 90-х и «нулевых». Он с неизбежностью приведёт к окончательному краху той хорошо продуманной и научно обоснованной градостроительной матрицы, которая создавалась Генпланами 1935 -1971 гг. — и, как следствие, к дестабилизации всего столичного региона в целом. Разве новые власти этого не понимают?!
Дальнейший ход событий показал, что отлично понимают. И что абсолютно сознательно идут на системное разрушение советского градостроительного наследия и любых законодательных норм, мешающих тотальной коммерческой застройке Москвы. Главным инструментом такого разрушения, призванным максимально упростить и ускорить «процесс», выступила созданная в ноябре 2010 года т.н. «Градостроительно-земельная комиссия»(ГЗК), которую возглавили лично мэр Собянин и вице-мэр по строительству Хуснуллин. Несмотря на свой номинально консультативный статус, она замкнула на себя всю строительно-земельную проблематику мегаполиса, её решения были окончательными и оспариванию не подлежали — причём даже в случаях вопиющего противоречия московскому и федеральному законодательству. Узаконивание беззакония по принципу «любой каприз за ваши деньги» стало одним из главных направлений деятельности этого странного органа, который в определённых кругах давно называют «фабрикой взяток» и «главным коррупционным конвейером Москвы». «Согласование объектов самовольного строительства и незаконной реконструкции в Москве через Градостроительную земельную комиссию (ГЗК) — это наиболее эффективный метод. Процесс узаконивания начинается с подачи заявления на имя заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. с просьбой рассмотреть вопрос о сохранении объекта недвижимости в существующих объемах. ГЗК, рассмотрев Ваше обращение на заседании Рабочей группы, может принять положительное решение о сохранении объекта путём прохождения собственником ряда мероприятий по его узакониванию (легализации)…»
Старый советский лозунг «Москва должна развиваться!» в представлениях нового мэра и его команды означал лишь одно: локомотив стройкомплекса должен двигаться без помех, невзирая на любые технические и юридические запреты, и регулярно привозить своим бенефициарам вожделенные миллиарды. Ну, а то, что в его топку отправятся судьбы миллионов москвичей с их законными правами и интересами, да и вся российская столица в целом как живой организм со своей исторически сложившейся системой противоэпидемической защиты — проблемой для них не было в принципе. Достаточно вспомнить, к примеру, известные откровения Хуснуллина о том, что в своей деятельности он ежедневно нарушает Генплан (https://www.youtube.com/watch?v=aCdoRLZ9JWE).
1 июля 2012 Москва «взорвалась», одномоментно увеличившись в размерах в 2,5 раза (!) или на 160 тысяч га. В результате этого направленного «взрыва», организованного мэрией при поддержке единороссовского большинства Мосгордумы и активном соучастии федеральных властей, статус столичных (т.е. сверхдорогих и коммерчески привлекательных для застройки) получили престижные земли юго-западного Подмосковья, наполовину покрытые лесами и ещё вчера бывшие важнейшей частью Лесопаркового защитного пояса Москвы (ЛПЗП)(https://realty.ria.ru/20111227/397044439.html).
Чтобы успокоить общественность и специалистов, ещё в ноябре 2011 года мэрией была проведена масштабная дезинформационная кампания. «Весь зеленый пояс Москвы, который там (на новых территориях) находится, не только будет сохранен, но и превратится в крупные европейские парки, которые можно сформировать, так как территория не застроена. Мы должны охранять лес, благоустраивать его», — заявил Собянин.
Кроме того, он отметил, что на присоединяемых к столице территориях не планируется вводить многоэтажную застройку. «Общая практика мегаполисов мира, когда они включают большие территории, состоит не в том, чтобы их застраивать огромными домами, а в том, чтобы сохранять в том числе сельскохозяйственные земли, создавать комфортное проживание для жителей региона. Это наша позиция и мы не собираемся делать ничего более того, что было предусмотрено Генеральным планом развития поселений новых территорий Москвы», — пояснил столичный градоначальник» (https://realty.ria.ru/20110907/396645134.html).
В образовавшийся прорыв, названный «Троицким и Новомосковским административными округами» (ТиНАО), тут же ринулись близкие к власти застройщики: «ПИК», «Самолёт девелопмент», «Инград», «МИЦ» и другие. «Всего за пять лет в городе введено свыше 41 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 15 миллионов квадратных метров жилья. При этом в последние годы примерно 50 процентов всей новой недвижимости возводится на территориях развития (промзоны и ТиНАО)» — рапортовала мэрия в 2016 году (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/3168050/). В 2019 году Новая Москва дала уже 80 процентов ежегодного прироста столичной жилой недвижимости, то есть 4 млн.кв.м из 5
Какого рода жилая застройка сегодня превалирует в ТиНАО — вопрос риторический. Разумеется, это многоэтажные жилые комплексы, которые мэр твёрдо пообещал не строить и чья плотность регулируется лишь стремлением извлечь максимум прибыли из каждого метра земли. В народе их сразу же окрестили «гетто» и «резервациями» за монструозный внешний вид, низкое качество строительства и отсутствие необходимой инфраструктуры.
Вопреки мэрским обещаниям не трогать земли сельхозназначения и лесопаркового защитного пояса, под разнообразную застройку в ТиНАО также активно «уходят» бывшие колхозно-совхозные поля и леса бывшего Гослесфонда. Изменение вида их разрешённого использования на «ИЖС», «многоэтажную жилую застройку», «промышленно-складские комплексы», «торгово-развлекательные центры» и проч. здесь давно поставлено на поток (https://kupizemli.ru/novaya-moskva).
Застройка лесов Новой Москвы, семь лет осуществлявшаяся методом «нахрапа» и заноса взяток в соответствующие высокие кабинеты, постановлением Правительства Москвы №1457 от 11 ноября 2019 года теперь разрешена официально.
«Что леса в ТиНАО будут рано или поздно пущены под бульдозер, было очевидно еще с того дня, когда эти территории были присоединены к Москве. Потому что единственной целью создания этого странного новообразования и было – создать площадку для строительных компаний, какими бы красивыми словами это не называлось. Экологи с самого начала предупреждали, что вырубка лесов к юго-западу от Москвы – это наихудший из возможных вариантов. Потому что из-за розы ветров именно с этого направления в столицу большую часть года дует ветер, хоть как-то снабжая загазованный мегаполис кислородом. Теперь эту “кислородную подушку” Москвы будут ужимать и дальше — очевидно, до «стандартов озеленения» ЦАО…»
В дальнейших планах мэрии, как известно, продолжение агрессивного расширения столичной агломерации на юго-запад и бурная коммерческая застройка присоединённых территорий. Именно в ноябре 2019, сразу вслед за выпуском своего «лесного» постановления №1457, она представила на общественные слушания очередной проект такого расширения, предусматривающий включение в границы мегаполиса Подольска, Чехова, Серпухова и Калуги с прилегающими районами уже к 2030 году (https://region.expert/moscow-expansion/). Учитывая, что, по мнению Собянина, «в воронку московской агломерации уже сегодня втянуты свыше сорока миллионов человек «, её дальнейшее разрастание неизбежно приведёт к ещё большей концентрации здесь населения за счёт опустошения и обнищания других российских регионов (https://expert.ru/russian_reporter/2019/16/gde-moskva/).
Взломом внешнего контура мегаполиса — и, соответственно, демонстративным отказом от всех научно обоснованных ограничений роста его территории и населения, установленных в советское время, мэрия не ограничилась. Рыночная цена земли в границах Старой Москвы и, как следствие, ожидаемая прибыль от её уплотнительной коммерческой застройки были слишком велики, чтобы не начать полномасштабную экспансию и в этом направлении.
Первыми жертвами такой экспансии стали земли природного комплекса, которые Собянин и его команда посчитали наиболее лёгкой добычей. Уже в октябре 2011 года новый мэр подписал указ о корректировке границ природно-исторического парка «Москворецкий», крупнейшей в Москве особо охраняемой природной территории (ООПТ). Взамен живописной части Крылатских холмов, отданной под строительство многоярусного коммерческого гаража, парк получил лишь жалкую «компенсацию» в виде чахлого газона поликлиники №5 (https://www.gazeta.ru/social/2010/02/10/3322354.shtml).
Издевательская схема, по которой незаконно отчуждаемые под коммерческую застройку природные территории мэрия затем «компенсировала» внутриквартальными газонами или даже территорией кладбищ(!), вскоре была поставлена ею на поток (https://www.vesti.ru/videos/show/vid/823240/cid/7/,
В апреле 2012 года Собянин издал свой печально знаменитый «закон о зелени», вносящий поправки в Градостроительный кодекс Москвы и столичный Закон «О защите зелёных насаждений» и разрешающий отчуждение земель ООПТ, занятых гаражными комплексами, а также их застройку т.н. «социально-значимыми объектами» (https://ecojour.livejournal.com/857987.html).
В августе 2012 мэр так же «великодушно» одобрил капитальную застройку природных территорий объектами религиозного назначения: именно здесь было решено разместить свыше 100 храмовых комплексов по т.н. «программе 200 храмов Москвы» (https://polit.ru/news/2012/08/23/Moscow_oopt_hram/).
С особой тщательностью была разработана многолетняя спецоперация по коммерческому «освоению» Мневниковской поймы — другой уникальной части природного парка «Москворецкий» площадью 362 га, служившей «зелёными лёгкими» для двух столичных округов — ЗАО и СЗАО. В 2014 году её вдруг объявили «депрессивной» и утвердили совместный с федеральной властью проект по её выводу из ООПТ и застройке Парламентским центром и элитным жильём, однако затем Парламентский центр из проекта странным образом «выпал» и остался лишь привычный для мэрии вариант сверхплотной коммерческой застройки (https://msk-h-m.livejournal.com/145717.html,
Схожая судьба постигла и Нагатинскую пойму — ценнейший природный уголок ЮАО площадью около 60 га, десятилетиями служивший отдушиной для жителей этой индустриальной части Москвы. Здесь были лесные, луговые и прибрежные участки с большим количеством животных и птиц. Под тем же циничным лозунгом «благоустройства депрессивной территории» природные ландшафты поймы были уничтожены практически полностью (на 98 %), на их месте теперь расположен гигантский торгово-развлекательный комплекс «Остров мечты», а также строится очередной коммерческий ЖК на 54 000 кв. метров
В 2015 году, под видом реконструкции гребных баз и строительства общедоступного Центра водного спорта, мэрия санкционировала незаконную застройку охранной зоны лесопарка Серебряный бор элитным посёлком «для миллионеров» «Берег столицы», в результате была полностью уничтожена природная территория площадью свыше 8 га (https://regnum.ru/news/society/2246123.html).
Напротив Серебряного бора, в знаменитом сосняке на Живописной, ГЗК разрешила возвести элитный жилой комплекс «ЖК Дом Серебряный бор» — с лишением прилегающего к стройке земельного участка статуса ООПТ
Летом 2016 года, демонстративно нарушив московское и федеральное законодательство об охране объектов культурного наследия, мэрия санкционировала уничтожение 12 га парка музея-усадьбы «Кусково» под строительство участка т.н. «северо-восточной хорды» — продолжения коммерческой автотрассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» (https://www.gazeta.ru/auto/2016/12/08_a_10413065.shtml, https://anna-nik0laeva.livejournal.com/518915.html).
С 2012 года собянинско-хуснуллинский строительный локомотив пытается вломиться в национальный парк «Лосиный остров», примерно четверть территории которого расположена в Москве. Сначала мэрией ставился вопрос о передаче в московское ведение всего (!) Лосиного острова (11 000 га) для его «комплексного благоустройства». По мнению экспертов, такая передача имела целью понижение его природоохранного статуса (с национального заповедника до городской ООПТ) с последующей т.н. «рекреационной», «социальной», «спортивной» и прочей капитальной застройкой, разрешённой московским законодательством и фактически прикрывающей любой коммерческий произвол
Когда спецоперация «Передача» сорвалась из-за общественных протестов, была избрана другая тактика, а именно прямого и жёсткого «хапка» с последующей агрессивной застройкой и постановкой федеральных властей перед уже свершившимся фактом. С этой целью, грубо нарушив нормы федерального, московского и областного законодательства (в частности, постановления исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 10.10.1988 № 2130-1344), властями Москвы были выданы разрешения на застройку охранных зон заповедника крупными жилыми, гаражными и торговыми комплексами (ЖК «Сказочный лес» и др.). Незаконные стройки, сопровождавшиеся вырубкой сотен деревьев и кустарников, вновь были остановлены лишь усилиями общественности и оппозиционных депутатов
Аналогичным «строительно-благоустроительным» набегам со стороны чиновников подверглось абсолютное большинство природных и парковых территорий Москвы. «Горячими точками» давно стали природные заказники «Крылатские холмы», «Воробьёвы горы», «Долина реки Сходня» и «Долина реки Сетунь», Жулебинский и Битцевский леса, парки «Тушинский», «Измайловский», «Медведковский», «Царицыно», «Останкино» и «Торфянка», скверы на Зелёном проспекте и Украинском бульваре, многие десятки (если не сотни!) других жизненно необходимых москвичам зелёных зон.
В 2019 году мэрия рассудила, что процессу стихийного разграбления земель природного комплекса под коммерческую застройку необходимо придать системный характер. В августе 2019 года Департамент природопользования и охраны окружающей среды г.Москвы (ДПиООС) провёл тендеры общей стоимостью 630 млн. рублей (!) на осуществление работ по подготовке нормативных документов, обосновывающих размещение на землях 67 столичных парков и ООПТ разнообразных объектов капитального строительства. Их единственным участником (и победителем) стал НИиПИ Генплана Москвы, являющийся структурным подразделением Департамента строительства мэрии.
В соответствии с полученным заданием, теперь он должен выделить в каждой природной территории т.н. «зоны развития», подлежащие капитальной застройке. Понятно, какие «зоны развития» он в итоге выделит и что там останется от живой природы. По факту же речь идёт об очередной атаке на «зелёные лёгкие» Москвы, абсолютно беспрецедентной по масштабу https://www.kommersant.ru/doc/4074434).
Собянин и его окружение много раз публично высказывались в том духе, что промзоны, пустыри и прочие «неухоженные городские пространства» должны рекультивироваться, благоустраиваться и превращаться в парковые территории, «в которых так нуждаются наши жители». В реальности же эти земельные участки, как правило, передаются близким к мэрии застройщикам, которые пускаются во все тяжкие, чтобы обеспечить себе и своим властным покровителям максимальную прибыль при минимальных издержках.
«Без рекультивации, без снятия грунта на глубину от 5 до 15 метров и засыпки чистой землей использовать такие площадки под жилье нельзя. Тем не менее, новые столичные микрорайоны строятся на территориях ликвидированных предприятий, стихийных свалок и канализационных отстойников… Часто в почве идет процесс газогенерации, биогаз может накапливаться в подвалах и коммуникациях, а это опасно для жизни людей, отравления могут быть смертельными… Мэрией вынашиваются грандиозные планы по реорганизации 30 московских промзон . В рамках этих проектов запроектировано более 9 млн. кв. метров недвижимости различного формата, 4,9 млн. из них относится к жилой застройке. Самым масштабным проектом является освоение промзоны ЗИЛ (1, 56 млн. кв.м недвижимости, из них жилой – 580 тыс. кв. м). Второй по масштабности проект – освоение территории завода «Серп и молот» (1,55 млн. кв. м недвижимости, из них 1,1 млн. кв. м придется на жилье). В списке приоритетных также промзоны «Нагатинский затон», «Соколиная гора», «Павелецкая», «Алабушево», «Нагатино», «Воронцово», «Западный порт», «Перово», «Ботанический сад». Недавно правительство Москвы утвердило проект квартальной застройки «Грайвороново», согласно которому на площади 19,4 гектара будет возведено 586 тысяч кв. м. жилья и социальных объектов…»
Когда решался вопрос об освоении бывших Ходынского и Тушинского аэрополей, которые мэрия в своё время также привычно назвала «пустырями» и «депрессивными территориями», ею давались твёрдые обещания создать там не только комфортные жилые микрорайоны со всей необходимой инфраструктурой, но и обширные парковые зоны. На этом впоследствии строились и рекламные кампании застройщиков, обосновывающих дороговизну своей недвижимости именно близостью к будущим паркам. ЖК на Ходынке, к примеру, так и назывался — «Гранд-парк», а его рекреационной изюминкой должен был стать парк «Исторические ландшафты Москвы» площадью 26 га. Но землю парка, несмотря на массовые протесты жителей, в итоге отдали под строительство торгового центра «Авиапарк» — одного из крупнейших в Европе (https://www.kp.ru/daily/25945.4/2889126/).
Схожая судьба постигла и Тушинское аэрополе: от первоначальных обещаний мэрии «построить вторые Лужники с огромной парковой зоной» в окончательном проекте остался лишь стадион «Спартак», окружённый со всех сторон железобетонным «гетто» из сверхплотной жилой застройки по принципу «окно в окно», а также гигантскими торговыми центрами и ТПУ
При этом мэрия, постоянно заявляющая о конкурентоспособности Москвы в сравнении с передовыми мегаполисами мира, почему-то упорно игнорирует их опыт в деле реорганизации таких территорий — к примеру, хорошо известный опыт реорганизации бывшего аэродрома «Темпельхоф» в историческом центре Берлина. Понимая, насколько это место значимо для берлинцев, мэрия провела общегородской референдум, чтобы выяснить их мнение. Люди высказались за парк — и чиновники этому решению подчинились, хотя соблазн застроить «Темпельхоф» элитным жильём и заработать серьёзные суммы в городскую казну был очень велик. Не менее важным аргументом в пользу парка стало мнение экологов: их исследования доказали, что «поле аэродрома играет роль климатической подушки, естественного кондиционера, охлаждающего прилегающие районы, и если застроить его высотными домами, то это нарушит циркуляцию воздуха». Разве наши исторические Ходынское и Тушинское поля не были достойны лучшей участи, чем просто превратиться в безликое железобетонное «гетто», обогатившее кучку нуворишей и ухудшившее экологию Москвы? (https://masterok.livejournal.com/2386581.html).
Занимаясь широкомасштабным вовлечением в строительный оборот земель природного комплекса, а также промзон и т.н. «пустырей», мэрия одновременно ведёт системную работу по незаконному изъятию (а, фактически, хищению) земельной собственности миллионов москвичей, собственников квартир в многоквартирных домах преимущественно советского времени — для её последующей продажи и коммерческой уплотнительной застройки.
Согласно ст. 36 Жилищного кодекса РФ, каждый собственник приватизированной квартиры в многоквартирном доме владеет земельным участком, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иными объектами, предназначенными для его обслуживания и эксплуатации. Согласно ч.4 ст.43 Градостроительного кодекса РФ, границы такого участка устанавливаются с учётом градостроительных нормативов и правил, действовавших В ПЕРИОД ЕГО ЗАСТРОЙКИ. Поскольку свыше 80 процентов жилых зданий в Москве были построены в советское время , границы их земельных участков, установленные в соответствии с советскими строительными и санитарными нормативами, фиксировались в полном техническом паспорте БТИ, который в обязательном порядке получало каждое домовладение. Этот советский паспорт БТИ с границами земельного участка, согласно п.2 ст.47 Федерального закона №221 «О государственном кадастре недвижимости», до сих пор имеет ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ.
Таким образом, закон обязывает столичных чиновников перенести в кадастр данные о земельной собственности примерно 10 миллионов москвичей — владельцев квартир в домах советской постройки — именно в тех границах, которые были установлены паспортами БТИ. Однако администрация Собянина сделала вид, что этих паспортов НЕ СУЩЕСТВУЕТ, а земля под советской жилой застройкой представляет собой чистое поле, которое необходимо МЕЖЕВАТЬ ЗАНОВО и на тех условиях, которые выгодны мэрии и её застройщикам. В результате этого незаконного межевания (а, по сути, перемежевания, проведённого в 2011-2014 годах), объём земельной собственности граждан радикально сократился (до 50 процентов от площади их участков по БТИ), а «освободившуюся» землю (как правило, детские и спортивные площадки, зелёные зоны, автопарковки жителей и т.д.) чиновники затем оформляли как т.н. «территории общего пользования», принадлежащие городу, и активно распродавали своим застройщикам по коррупционным схемам.
Когда граждане, осознавшие обман со стороны чиновников, стали массово обращаться в архив г.Москвы для получения паспортов своих домовладений, им отвечали, что они либо «утрачены», либо чинили непреодолимые препятствия в их получении. Многие эксперты совершенно справедливо оценили собянинское межевание 2011-2014 гг. как «массовое ограбление» http://narodnaya.org/2013/12/20/—/).
Новое наступление на Москву и москвичей в интересах взбесившегося от вседозволенности стройкомплекса сопровождалось, как обычно, мощной дезинформационной кампанией. «Сергей Собянин еще раз подтвердил: он не сторонник небоскребов и точечной застройки… «Уверен, нам не нужно больше лезть ввысь. Почему-то часто складывается представление, что, например, в Нью-Йорке люди все время стоят, задрав голову вверх, и смотрят на небоскребы. На самом деле 90 процентов мегаполиса, как и все остальные города в США, представляют малоэтажную застройку. Москва же в последние годы рвалась вверх. Вот и оказалась застроенной плотнее и Парижа, и Лондона, и Токио…» — твёрдо заявлял мэр Москвы в апреле 2013 года
Практически сразу же после собянинских заверений о недопустимости «точечной» и высотной застройки поднялась её очередная волна. Но, по сравнению с предыдущими волнами, уже успевшими уплотнить и изуродовать Москву в 90-е и «нулевые», она оказалась намного мощнее и охватила практически все районы Старой Москвы. Застройщики, ссылаясь на инвестконтракты с мэрией, массово вторгались в обжитые кварталы и начинали стройки своих высотных ЖК прямо на месте когда-то уютных и обустроенных зелёных дворов, придомовых сквериков и детских площадок.
Именно так, к примеру, случилось на ул. Академика Павлова, 42-48 в Кунцево, на Сивашской улице, 6 к1-2 в Зюзино, на 11-й Парковой улице, 46 в Измайлово, на Мичуринском проспекте, 30Б, на ул. Цандера,7 в Останкино, в сотнях других мест, подвергшихся преступному «перемежеванию». Чтобы узаконить происходящее и придать ему мало-мальски «цивилизованный» вид, в 2016 году мэрия поспешила принять новые Правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ), которые москвичи тут же переименовали в ПТЗ, т.е. Правила точечной застройки Москвы (https://forum-msk.org/material/news/12623921.html).
Одновременно собянинской командой велась активнейшая лоббистская работа по пересмотру строительных и санитарно-эпидемиологических правил и норм, мешающих уплотнительной застройке мегаполиса.
Например, весной 2014 года мэрия обратилась в Правительство РФ с требованием снизить нормы инсоляции жилых помещений, а также спортивных площадок и прогулочных зон жилых домов, школьных и дошкольных организаций и т.д., являвшихся важнейшим условием предотвращения заболеваемости населения туберкулёзом и другими опасными инфекциями.
«В последнее время с высоких трибун звучит много риторики об упрощении градостроительных норм, что позволит девелоперам возводить жилье дешевле. Весной представители Минстроя РФ сделали несколько заявлений о возможном снижении требований к жилью по нормам естественного освещения. Замруководителя Минстроя Александр Плутник рассказал, что соответствующее предложение поступило от столичных властей..» (https://realty.rbc.ru/news/577d24029a7947a78ce91ac2).
В итоге бурной лоббистской деятельности, направленной, по факту, на резкое ослабление противоэпидемической защиты столицы РФ, мэрия добилась своего. В 2017 году ст.12 Федерального закона №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» была дополнена пунктом, вводящим термин т.н. «стеснённой городской застройки» (!) и дающим право властям устанавливать для такой застройки особые (читай — существенно заниженные) санитарно-эпидемиологические требования.
Центральную роль в этом процессе, как ни прискорбно, сыграла нынешний руководитель Роспотребнадзора и Главный санитарный врач РФ Анна Попова, профессиональный эпидемиолог-инфекционист — т.е. человек, в чьи прямые обязанности как раз входит охрана здоровья граждан и недопущение нарушения их конституционных прав на безопасную санитарно-эпидемиологическую среду. В 2017 года она подписала распоряжение о внесении изменений в СанПиН, значительно снижающих требования к нормам инсоляции.
Для застройщиков это означало, что теперь они смогут воздвигать здания в полтора-два раза выше прежнего и практически впритык друг к другу — т.е. «выход» квадратных метров на продажу и, соответственно, их прибыль так же кратно увеличатся. Для москвичей же это означало, что на законодательном уровне чиновники обрекли их на жизнь в тени небоскрёбов ПИКа, КРОСТа, КАПИТАЛ-ГРУПП, ДОНСТРОЯ, ИНГРАДА и других воротил столичного стройкомплекса — и, как следствие, на повышенные риски заболеваемости опасными респираторно-вирусными инфекциями.
«На солнечном свете культура бактерий туберкулеза погибает через 1,5–2 часа, культура бактерий золотистого стафилококка — через 1,5 часа. Не стойки к солнечному излучению вирусы гриппа. Выявлена зависимость заболеваемости острыми респираторными заболеваниями от плотности застройки…»
Заполучив по итогам криминального перемежевания Москвы значительные массивы земли внутри сложившихся кварталов советской застройки и развязав себе руки в законодательном поле, собянинско-хуснуллинский строительный локомотив устремился к новым рубежам, сулившим просто заоблачную прибыль. Следующим таким рубежом стала т.н. «реновация морально и физически устаревшего жилого фонда Москвы», объявленная Собяниным в феврале 2017 года. Её истинной целью был окончательный отъём земельной собственности москвичей — владельцев квартир в малоэтажных домах советской постройки.
Суть новой схемы была зубодробительно проста: объявить большинство этих добротных домов, находящихся в обжитых районах и имеющих проектный ресурс эксплуатации 120-150 лет, «крайне изношенными и близкими к аварийности» и, посеяв страх и даже панику среди их жителей, переселить их затем в т.н. «новое равноценное жильё» в домах своих застройщиков, а освободившуюся землю выгодно продать под очередную волну уплотнительной застройки.
«Ведь ради чего мы затеваем реновацию? Ради того, чтобы дома, уже фактически отслужившие своё, были разобраны раньше, чем превратятся в развалины. Если мы не успеем и пятиэтажки начнут сыпаться, переселять жителей придётся в срочном порядке. И спрашивать: «Куда бы вам хотелось переехать?» — уже никто не будет. По закону об аварийном жилье переселяют туда, где у города в данный момент есть свободные квартиры. И это может быть не то что другой район — другой округ…» — активно запугивал москвичей в июне 2017 года вице-мэр Хуснуллин. О том, что в процессе переезда «счастливые переселенцы по реновации» утратят все права на свой главный и наиболее ценный актив — земельный участок под их домом в обжитом районе Москвы, а новых земельных прав не приобретут — мэрия, разумеется, умалчивала
«Цена вопроса» (3 триллиона рублей) оказалась настолько высокой, что в реновационную аферу были вовлечены практически все ветви высшей столичной и федеральной власти, работавшие как единый и хорошо смазанный лоббистский механизм. Её законодательное оформление от внесения соответствующих законопроектов в Госдуму, Мосгордуму и Совет Федерации до подписания Президентом РФ прошло с феноменальной скоростью (всего за 3,5 месяца, с 10 марта по 1 июля 2017 года).
При этом ни один депутат, сенатор или эксперт президентской администрации не озадачился вопросом о санитарно-эпидемиологических последствиях для столицы РФ сноса 7934 (впоследствии — 5173) малоэтажных зданий и последующей сверхплотной высотной застройки освободившейся земли (вместо 25 млн. снесённых кв. метров планировалось построить 80 млн. и больше). А ведь следовало бы озадачиться, поскольку речь шла не только об уничтожении качественного жилого фонда советской эпохи, но и о фактическом уничтожении всей прежней концепции устойчивости Москвы к возможным эпидемическим шокам, материальным воплощением которой он являлся.
Кроме того, никто не потрудился всерьёз озаботиться и другим вопросом: а кто конкретно станет покупателем этих десятков миллионов новых столичных квадратных метров, за счёт чего спецоперация «Реновация» сможет окупиться? И не окажется ли она в итоге гигантской финансовой «чёрной дырой», как это уже случилось во многих странах?
«Россия уверенно шагает по пути Китая, Испании, Ирландии и других, где настроили целые города, которые годами стоят в ожидании покупателей, предметно и зримо доказывая, что строительство жилья не может быть стабильным локомотивом экономического роста. Безумное и бездумное расточительство средств, которые не идут в реальное производство, в развитие человека, неизбежно обернется экономическим коллапсом — разорением строителей, банков, дольщиков и пайщиков, а так же предприятий смежных отраслей…»
Для отвлечения внимания общественности мэрия, как обычно, провела широкомасштабную дезинформационную кампанию. «Конечно, мы будем создавать новые районы, один из таких районов показан здесь, на выставке: как выглядит старый район, как будет выглядеть новый район, никаких многоэтажных домов, которые дискомфортны для населения, там нет. Это разноуровневая застройка — комфортная, с хорошими общественными местами, парками, скверами, соцкультбытом, хорошим транспортом. Это будущее новых районов!.. Дома по реновации будут от 6 до 14 этажей!» — твёрдо заверял мэр Собянин в мае-июле 2017 года
Эту позицию власти в июне 2017 года подтвердил и вице-мэр Хуснуллин. «На месте пятиэтажек появятся благоустроенные районы с местами приложения труда, паркингами и всей необходимой инфраструктурой… Обращаю ваше внимание, что это не только жильё, но и социальные и коммерческие объекты… Ожидать ли прироста населения? Нет, население Москвы перераспределится внутри города… Совершенно точно никаких небоскрёбов возводить не станем! Тем более что небоскрёбы — это здания выше 100 метров, то есть этажей так 27-28»
О своём подлинном реновационном будущем москвичи узнали лишь в конце 2018 — начале 2019 года, когда были опубликованы первые итоги тендеров Фонда реновации и прошли первые публичные слушания по проектам планировки реновируемых кварталов. Сбылись все самые мрачные прогнозы скептиков реновации. Как выяснилось, единственной целью проектантов, представлявших интересы мэрии и её застройщиков, было по максимуму нашпиговать высотными зданиями земельные участки, освобождающиеся после сноса пятиэтажек.
Вместо обещанной Собяниным и Хуснуллиным 6-14 этажной застройки фигурировали монстры высотой до 72(!) этажей, практически уничтожающие все общественные пространства вокруг (большие зелёные дворы, скверы, детские и спортивные площадки), к которым привыкли местные жители. Количество же квадратных метров (и, соответственно, жильцов) в реновируемых кварталах предлагалось увеличить в три-пять раз в сравнении с уже имеющимся ).
«В результате реновации население наших кварталов увеличится в разы! А инфраструктура? У нас уже сейчас все дворы и улицы забиты машинами, мы уже сейчас задыхаемся от гари и пыли! В школах, детских садиках и поликлиниках сплошные очереди! Как вы собираетесь обеспечить новых жителей социальными благами? За наш счёт? За счёт нашего здоровья и здоровья наших близких?! Не нужна нам такая реновация, это обман! Мы категорически против!» — возмущались участники общественных слушаний.
Ещё одним неприятным «сюрпризом» для жителей стали массовые фальсификации при их проведении и оформлении итоговых протоколов. Зал заранее заполняли сотрудниками управ, префектур и ГБУ «Жилищник», а также т.н. «группами поддержки реновации», к району отношения не имеющими, а уже после слушаний вдруг обнаруживалось, что высотность и плотность предлагаемой реновационной застройки, якобы «одобренной» их участниками, была существенно увеличена (!).
Как следствие, итоги слушаний стали массово оспариваться в судах и многие дома, поначалу поверившие обещаниям власти, впоследствии заявили о своём выходе из программы. Ряд оппозиционных депутатов Мосгордумы (в частности, Сергей Митрохин) назвали реальную практику реновации в Москве «откровенным геноцидом москвичей» (https://theins.ru/obshestvo/151235, https://www.kommersant.ru/doc/4189651, https://echo.msk.ru/blog/sergei_mitrohin/2663115-echo/,
Для жителей более чем двух тысяч столичных пятиэтажек, отказавшихся добровольно следовать в реновационную западню, мэрия приготовила насильственный механизм лишения их земельной и квартирной собственности — а именно через т.н. «программы комплексной реконструкции».
Специальным постановлением непокорные дома целыми кварталами включались в эти программы, а затем попросту продавались близким к мэрии застройщикам по инвестконтрактам. На любые дальнейшие действия застройщиков по изгнанию строптивых собственников из их родных стен (включая откровенно бандитские) власти города смотрели сквозь пальцы, одновременно обеспечивая беззаконию максимальную административную, полицейскую и судебную поддержку.
Именно так, к примеру, произошло в Кунцево, где без согласия жителей семь (!) кварталов и свыше 100 крепких кирпичных пятиэтажек с просторными зелёными дворами, в своё время категорически отказавшихся от реновации, были объявлены территорией комплексной реконструкции и в апреле 2018 года проданы группе ПИК. Ну, а группа ПИК действовала в своей привычной гангстерской манере: под стартовую высотку по ул. Ивана Франко варварски огородила и вырубила сквер, расположенный между домами 18, 20 и 22. Против возмущённых москвичей ею был брошен военизированный ЧОП, состоящий из жителей Северного Кавказа и активно поддержанный полицией и ОМОНом. В результате столкновений были пострадавшие, ряд защитников Кунцево и оппозиционных депутатов получили побои, административные сроки и драконовские штрафы (https://www.kommersant.ru/doc/3805826, https://mockva.ru/2020/03/13/109674.html, https://www.facebook.com/groups/1529555497123574/, ).
К концу 2019 года процессы «точечной застройки», «реновации» и «комплексной реконструкции» забуксовали, всё больше увязая в многочисленных конфликтах и судебных тяжбах с москвичами, вставшими на защиту своих законных прав и интересов. Общемосковского блицкрига по отъёму земельной собственности, задуманного мэрией и её высокими покровителями из федеральных структур, явно не получилось.
Однако вместо отказа от этой полностью дискредитировавшей себя политики власти решились на очередной авантюрный шаг, практически выводящий Москву из конституционного поля Российской Федерации и окончательно узаконивающий на её территории любой градостроительный произвол.
В конце декабря 2019 года Госдумой был принят Закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», фактически дающий право собянинской администрации строить в Москве где угодно и сносить всё, что угодно, который общественность сразу же окрестила «Законом сбесившегося бульдозера».
Этот законодательный акт, по мнению ряда политологов и оппозиционных депутатов, явился, по сути, актом публичного объявления войны горожанам со стороны властей, откровенной ставкой на голую силу при решении любых градостроительных вопросов. Именно с этого момента москвичи и московская мэрия окончательно оказались по разные стороны баррикад — экономических, политических и моральных
Подмосковье под управлением губернатора Воробьёва движется практически тем же градостроительным курсом, что и Москва. Главным локомотивом экономического развития здесь также назначен стройкомплекс, алгоритм зарабатывания на котором больших и быстрых денег для чиновников прост и понятен. Схема «чиновник-земля-застройщик-прибыль», давно обкатанная в столице, расцвела и в областных кабинетах.
Инвестиционная привлекательность области, понимаемая прежде всего как ничем не ограниченная возможность сверхплотной коммерческой застройки её лучших и наиболее близких к мегаполису территорий, включая природные, стала главным богом, на которого губернатор и его команда молятся все последние семь лет.
Разумеется, на этого бога дружно молились и их предшественники — администрации Тяжлова и Громова (Шойгу, занимавшего губернаторский пост символические полгода, в расчёт не берём). Именно при них Лесопарковый защитный пояс Москвы (ЛПЗП) подвергся первым массированным захватам, вырубкам и застройкам, а по малоэтажным подмосковным городам и посёлкам, когда-то утопавшим в зелени, прокатилась первая волна уродливой «точечной» застройки, взломавшая хорошо продуманную советскую планировку.
Росчерками чиновничьих перьев подмосковные леса и сельхозугодья десятками и сотнями гектаров переводились в земли жилой застройки, торговых, промышленных и складских комплексов, а уютные внутриквартальные скверики и зелёные дворы вдруг превращались в стройплощадки для очередных высоток ПИКа, УРБАН-ГРУПП, МОРТОН, СУ-155 и прочих аффилированных с властью застройщиков (https://www.apn.ru/index.php?newsid=37250).
Но если в доворобьёвский период всё это делалось с полным пониманием, что речь всё-таки идёт о криминале, чреватом определёнными рисками, то при губернаторе Воробьёве (как и при мэре Собянине в Москве), беззаконие было пролоббировано на самом высоком государственном уровне и возведено в закон, обросло соответствующими нормативными актами и стало самой сутью градостроительной политики его администрации.
Именно Воробьёв инициировал массовые изменения генпланов, правил землепользования и застройки и проектов планировки подмосковных городов, призванные легализовать уже совершённую криминальную застройку и «законно» обосновать застройку будущую — в разы более масштабную.
«В Москве 9 миллионов квадратных метров построили в 2015 году, в Московской области — 13,2 миллиона, из них 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Планируемый ввод жилья в 2016 году- 6 миллионов квадратных метров, — хвастался он в 2015 году, — Мы сейчас активно обсуждаем генеральные планы, в 2016 году утвердим 258 генеральных планов подмосковных городов. На особом контроле находится застройка всех городов в зоне притяжения Москвы: Химки, Мытищи, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королёв…» (https://ria.ru/20160310/1387740636.html).
О том, как именно губернатор Воробьёв и его команда «особо контролируют» строительную сферу, убедительно говорится в коллективном письме жителей Московской области на имя Президента РФ:
«Местные муниципальные и региональные власти активно лоббируют интересы застройщиков, полностью позабыв о своих прямых обязанностях действовать в интересах жителей региона. В рамках своих предвыборной кампании Андрей Воробьев обещал защитить интересы жителей и остановить строительный беспредел в Подмосковье, но ни одно из его обещаний выполнено не было. На данный момент областная администрация забрала себе все полномочия муниципалитетов по градостроительной политики и теперь все проекты по строительству новых микрорайонов проходят через личное согласование губернатора, поэтому можно смело утверждать, что Андрей Воробьев вместо того, чтобы бороться со строительным беспределом, сам его возглавил. Губернатор лично одобряет проекты планировок с повышенной плотностью и этажностью зданий и не обеспеченные должной инфраструктурой, которые ещё совсем недавно он клеймил позором и обещал навести порядок… Ограничение этажности в Подмосковье до 9 этажей было одним из основных предвыборных обещаний губернатора. Но он проявил завидную «гибкость», вначале установив ограничение на уровне 17 этажей, а потом с легкостью разрешая нарушать и его. Единственной целью нарушения действующих нормативов является повышение прибыли застройщиков в ущерб интересам жителей… » (http://mossovet.tv/posts/3441)
Аналогичные мнения высказываются гражданами и на интернет-форумах практически всех крупнейших подмосковных городов:
«Для обхода законодательства все средства хороши, включая даже программы расселения ветхого жилья. Под этим предлогом десятки тысяч наших жителей лишились придомовых территорий. Власти и застройщики часто пользуются плохим состоянием нашего жилого фонда и манипулируют этим, уплотняя застройку под видом будущего расселения из ветхого жилья. В результате плотность застройки без обеспечения инфраструктурой растет. Под программу расселения можно впихнуть дом там, где его не может быть по определению. Расселяют всего 3-5 семей, а остальным предлагают ещё подождать, когда новую высотку построят во дворе чьего-то дома…»
«Когда громко хрустят 100 млрд рублей, про законные основания можно забыть. Я предполагаю, что в своё время областные власти дали гарантии застройщику, а исполнителем гарантий назначили одинцовские власти. Ничем другим их бесстыжую суету объяснить нельзя. Основанием для изменений в генплан стал проект планировки территории, подготовленный застройщиком! Вдумайтесь! Генеральный план поселения меняется в угоду коммерческих интересов конкретного застройщика! Если это не коррупция, то что тогда коррупция?!» (https://odintsovo.info/news/?id=60825)
«Градостроительный совет Московской области стал согласовывать самые скандальные и противозаконные стройки в совершенно немыслимом количестве, даже те, которые ранее были отменены из-за протестов населения. Такого количества застройки и в такие короткие сроки ещё не было! Подмосковье этого просто не выдержит! В Химках свирепствует точечная застройка: массово строят жилые комплексы, магазины, офисные центры — и это несмотря на нехватку социальной инфраструктуры! Не строят ни школ, ни детских садов, ни поликлиник, уничтожают последние оставшиеся скверы и уменьшают территории парков. Губернатор Андрей Воробьев вместо того, чтобы следить за порядком и пресекать беззаконие, всячески одобряет массовую хищническую застройку без какой-либо инфраструктуры, согласовывает застройку парковых зон, скверов, береговой линии. Прокуратура, правительство Московской области, местная администрация, суды — все цинично и нагло отказываются видеть нарушения и защищать права жителей, дают беспрепятственно уничтожать территории города даже ради возведения мелких магазинов и ларьков. Жители моего города беззащитны и обозлены, они потеряли доверие и уважение к государству, закону, власти — так как люди, действующие от имени государства и закона, демонстрируют абсолютную беспринципность, лживость, отсутствие всяких представлений о чести мундира. Когда кончится этот кошмар и в Химках снова начнут приводить ситуацию в соответствие с законом, а не прихотями частных компаний?»
Мнение жителей во многом разделяют эксперты:
«Инфраструктура Московской области, как социальная, так и транспортная — больное место. Достаточно вспомнить «каменные джунгли» Павшинской поймы в Красногорске. Этот масштабный проект стал уже своего рода синонимом непродуманного строительства. При возведении района почти на 30 тыс. жителей не были предусмотрены ни нормальные выезды, ни парковки, ни объекты социальной инфраструктуры»,- свидетельствует председатель совета директоров «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова. Такая же ситуация в Балашихе, которую застраивают высотными домами эконом-класса, в результате транспортная ситуация ухудшается. Высокая плотность застройки — в Реутово, Химках, Одинцово, Юбилейном (в 2014 году вошел в состав Королева) и Железнодорожном (входит в Балашиху). Активно застраиваются Люберцы…
«Бывает, что посреди голого поля возникает несколько корпусов. При этом страдает окружающая среда, никакого загородного образа жизни, который обещают многие застройщики, никакой экологии…» — считает генеральный директор агентства недвижимости Point Estate Тимур Сайфутдинов
Чтобы ещё наглядней представить разрушительную мощь той градостроительной бомбы, которая закладывается сегодня властями под всё Подмосковье, достаточно привести в пример судьбу Красногорска — его фактической столицы.
В 1991 году в Красногорске было 90 тысяч жителей. В советское время он был одним из самых грамотно спланированных, зелёных и комфортных для жизни подмосковных городов. К 2013 году, в основном за счёт криминальной «точечной» застройки 90-х и «нулевых», его население выросло до 120 тысяч и эта прибавка в 30 тысяч новых горожан для красногорцев была весьма ощутима: на дорогах стало больше машин, увеличилась нагрузка на социальную и коммунальную инфраструктуру. Но именно с появлением на должности губернатора области Воробьёва всей прежней относительно благополучной красногорской жизни пришёл конец. Население Красногорска сегодня, по официальным данным, уже зашкаливает за 180 тысяч человек, по неофициальным — за 300 тысяч и выше. Только лишь в новом микрорайоне Павшинская пойма, сверхплотно застроенном высотками, уже, по факту, проживает около 100 тысяч человек. Согласно проекта нового Генплана, разработанного по указанию губернатора Воробьёва и представленного на обсуждение общественности в 2018 году, в ближайшие 20 лет Красногорск должен утроить(!) своё население и превратиться в город-миллионник (!). Ради этой «высокой» инвестиционной цели его поля, луга, леса, парки, охранные зоны водных объектов, объектов культурного наследия и даже санитарные зоны кладбищ должны уйти под тотальную коммерческую застройку, а сам город превратиться в загазованный каменный мешок.
«Вопрос: на чём основаны эти грандиозные планы? Ответ: да ни на чём, кроме патологической жадности коррумпированных чиновников и их застройщиков. Они противоречат даже тем планам развития Красногорска, которые раньше принимала сама администрация! Возьмём, к примеру, действующий генплан Красногорска. Какие базовые параметры в него закладывались? Предусматривался рост численности населения к 2025 году до 190 тысяч человек при динамике ежегодного прироста населения 5 тысяч. При этом подчёркивалось, что в Красногорске больше нет резервных территорий для застройки и все свободные площадки заняты. Сегодня, в ноябре 2018 года, население Красногорска уже, по факту, превысило 300 тысяч человек — и город оказался в ситуации, экстремальной во всех отношениях. Транспортный коллапс, отсутствие работы, крайний износ инфраструктуры, созданной в советское время и не рассчитанной на такие нагрузки. В Красногорске огромный дефицит мощностей водозаборных сооружений и насосных станций, а также дефицит чистой воды. Объём сточных вод, поступающих в централизованную систему канализации города, давно превышает её пропускную способность, из-за чего постоянно случаются аварии. В 1999 году таких аварий было 324, сегодня — свыше 1500, то есть прирост почти в пять раз! В настоящее время жилфонд (многоквартирный и индивидуальный) округа составляет 7 487,8 тыс. кв.м. Новым Генпланом предлагается увеличить объём застройки до 21 028,9 тыс. кв.м.! На той же территории хотят разместить ещё ТРИ Красногорска, т.е. около миллиона человек! При этом отсутствуют показатели обеспеченности населения социальными благами (детскими, образовательными, медицинскими учреждениями и т.д.), необходимым количеством рабочих мест, коммунальными ресурсами: электро-, водо- и теплоснабжения и т.д. ЖКХ уже сейчас работает на пределе своих возможностей и требует срочного обновления: крайне изношены трубы, не хватает мощности котельных и другого оборудования. Мы в итоге к чему сегодня пришли?! К тому, что новый Генплан основан исключительно на уже выданных областной и городской администрациями разрешениях на коммерческое строительство, на инвестконтрактах! То есть в нём вместо разумного градостроительного баланса, основанного на учёте реальности — инженерно-технической, социально-демографической, экологической, какой угодно — присутствуют лишь коррупционные «хотелки» воробьёвских чиновников и их застройщиков, ошалевших от вседозволенности…»
Взрывной рост территории столичного региона, сопровождаемый бездумной и агрессивной коммерческой застройкой Москвы и Московской области, привёл к взрывному росту его населения и, как следствие — к лавинообразному нарастанию экологических проблем, которые ряд ведущих российских экспертов всё чаще называют «экологической катастрофой» и даже «коллапсом».
Фактическое уничтожение Лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП), шедшее одновременно с бурной автомобилизацией региона (на автомобили приходится до 95 процентов вредных выбросов в атмосферу), привело к экстремальному загрязнению его воздушного бассейна и почв. Согласно официальным данным, по абсолютному количеству выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ (свыше 1 млн.тонн в год) Москва в границах МКАД уже уверенно обошла Красноярск, Череповец, Липецк, Новокузнецк и другие крупнейшие промышленные центры РФ, пропустив вперёд лишь Норильск (2 млн. тонн в год).
Так, к примеру, вдоль всех главных автомагистралей столицы и области ПДК (предельно-допустимые концентрации) по диоксидам азота в воздухе и почвах превышены от 5 до 15 раз. По содержанию нефтепродуктов и тяжёлым металлам в реках Москве, Истре, Сходне и др. превышение ПДК уже достигает 3 раз, по азоту — 3,6 раз, нитратам — 5 до 15 раз, меди — 10 раз, цинку- 5,8 раз; аммиаку — 4,7 раза, нитритам — до 6 раз (https://riarating.ru/infografika/20130806/610579801.html).
Новые объёмы жилого, складского и промышленного строительства, вводимые на территориях Подмосковья и Новой Москвы, подключаются к канализационным сетям ещё советской постройки, уже предельно изношенным и не имеющим необходимых мощностей, либо оборудуются локальными очистными системами, зачастую крайне неэффективными. В результате миллионы тонн коммунальных и производственных стоков ежегодно сбрасываются непосредственно на ландшафты, отравляя почву и уничтожая водные экосистемы столичного региона.
По мнению замначальника департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО Константина Елисеева, в Московской области 855 очистных сооружений и порядка 90% из них обветшали, требуют капитального ремонта и реконструкции. По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, здесь необходимо реконструировать 70–80% очистных сооружений, на эти цели требуются сотни миллиардов рублей.
«У нас 300 рек и по каждой реке нужно провести работу. В течение 30–40 лет такая работа не проводилась…» Как следствие, практически все малые реки столичного региона (Сетунь, Яуза, Пехорка, Сходня, Банька, Воря, Десна, Ликова и др.) превращены, по факту, в сточные канавы и опасны для населения, а экологическое состояние больших рек (река Москва, Ока, Клязьма, Волга), связанных с ними общими бассейнами, постоянно ухудшается
«Застройщики выступают в тесной связке с коррумпированными чиновниками, добиваясь от них разрешения не строить сопутствующую инфраструктуру. А ведь это не только школы, детские сады и парковки, но и очистные. Вместо них застройщики ставят разные бутафорские конструкции, т.н. «локальные очистные», а канализационную трубу прямо через них выводят в ближайшую речку и считают, что дело сделано. Так случилось с нашим микрорайоном от компании «Мортон», который убил когда-то чистейшую речку Ликову. Вонь стоит такая, что окна открыть невозможно. При такой ситуации Москва и Подмосковье обречены. Бюджету сложно пополняться еще как-то. Производства разрушены и с них налогов особо не возьмёшь, остаётся драть деньги с горожан, многочисленных офисов и торговых центров. И позволять застраивать дальше всё, что можно и нельзя…» — описывает свою ситуацию один покупателей квартиры в ЖК «Солнцево-парк» рядом с Внуково.
Всё больший вклад в надвигающийся экологический коллапс региона вносит мусорная проблема. Как уже говорилось, в рамках советских генпланов Москвы была создана эффективная для своего времени система раздельного сбора и утилизации столичных бытовых и производственных отходов, однако в начале 90-х она была уничтожена. Вся мусорная отрасль почти на три десятилетия оказалась в руках коррумпированных чиновников и крышующих их ОПГ, состав которых варьировался от откровенных бандитов до представителей силовых структур. Как следствие, на бывшие советские полигоны свозились все виды бытовых, промышленных, медицинских и биологических отходов без разбора, какой-либо контроль за их утилизацией со стороны государства был полностью утрачен.
Кроме того, в 90-е годы возникли принципиально новые виды мусора (полиэтилен, полистирол, пенопласт и т.п.), разлагающиеся крайне медленно (до 500 лет) и выделяющие при сгорании смертельно опасные яды: диоксины, бензопирены и т.д. Помимо четырёх десятков официальных полигонов в Подмосковье возникли также тысячи т.н. «нелегальных» свалок, ставших результатом сговора местного криминалитета с коррумпированными главами городских и поселковых администраций.
Зачастую территорией таких свалок становились бывшие сельхозугодья, леса или даже водоохранные зоны. Они огораживались и годами принимали сотни тысяч тонн мусора, отравляя всё вокруг на многие километры. В 2013 году губернатор Воробьёв насчитал в Московской области свыше 2000 нелегальных свалок, по данным ОНФ (Программа «Назови свалку») их уже свыше 20 тысяч.
Общий объём бытового и промышленного мусора, накопленного на свалках столичного региона (официальных и неофициальных), на сегодня составляет примерно 5-6 млрд. тонн — т.е. 15-20 процентов от общероссийских 30 млрд. тонн. Ежегодно к нему прибавляется ещё примерно 13 млн. тонн (https://ru.wikipedia.org/wiki/).
Поскольку все эти свалки не имеют экранирования и химические продукты, ими выделяемые (свалочные газы, ядовитый фильтрат и т.п.), напрямую попадают в атмосферу, почвы и водные объекты, а время разложения находящихся в их теле компонентов составляет до 800 лет, можно утверждать, что Московский регион является сегодня не только самой замусоренной территорией России, но и, как следствие, зоной чрезвычайной экологической опасности на столетия вперёд
Попытки решить мусорную проблему, предпринимавшиеся властями Москвы и области в последние годы, реальных результатов не дали. Демонстративное закрытие нескольких переполненных полигонов привело лишь к перераспределению постоянно нарастающих объёмов мусора на другие полигоны, также переполненные.
Вместо современной индустрии раздельного сбора и переработки отходов на основе НДТ (наилучших доступных технологий), создать которую Москва и область были обязаны ещё к 2019 году в рамках нацпроекта «Экология», их руководством был взят курс на мусоросжигание и продолжение захоранивания отходов уже не только на территории столичного региона, но и на вывоз их в соседние Калужскую, Владимирскую области и даже в Архангельскую области (https://www.kommersant.ru/doc/4349953).
Это решение лишь усугубило ситуацию. 4 мусоросжигательных завода, построенные по устаревшим технологиям 70-х годов и отравляющие диоксинами и бензопиренами территории в радиусе 100 км, стали ещё одним ударом по экологии столичного региона и здоровью его жителей.
«Если к продуктам разложения свалок добавить ещё продукты сжигания, то будет такая смесь, что не позавидуешь никому. И никакие маски населению не помогут. Потому что маски – это имитация каких-то защитных мер. Индивидуальные средства защиты хороши, когда ты забежал и выбежал. Но не когда ты спишь, дети спят и этим дышат… Ночью дышать практически невозможно, температурная инверсия прижимает всю эту массу выбросов к земле, концентрация усиливается. И люди, особенно пожилые или с сердечной недостаточностью, и тем более дети, чувствуют это особенно остро. И могут умереть… В Московской области есть четыре действующих завода. Вся область накрыта выделениями от них и Москва, конечно, тоже. Европа отказывается от этих технологий, а нам рассказывают, причем не специалисты, что мусоросжигательные заводы — это правильно. Жгут хлорорганические соединения, которых в мусоре в избытке. Значит, диоксины в воздухе гарантированы. И разговор о том, что там санитарно-защитная зона 1,5 километра — это ни о чем. Необходимо поле в 100 километров, чтобы на жилые районы не распространялись примеси бензопирена и диоксинов. Они чрезвычайно токсичны для человека и относятся к первому, самому опасному классу экотоксикантов. Эти вещества могут годами находиться в окружающей среде и в живых организмах, не изменяясь, не разрушаясь, в полной мере проявляя свои ядовитые свойства. Мы сейчас говорим не об острых, часто смертельных отравлениях, вызванных массированным воздействием токсина, а о длительном воздействии на организм в малых дозах. Механизм действия экотоксикантов заключается в нарушении либо прекращении согласованной работы органов и систем. Например, диоксин блокирует рецепторы и вместо нормального отклика клеток, мы получаем патологический. Все это сопровождается разрушениями ДНК без возможности нормального восстановления. Длительное проживание в экологически неблагополучных регионах приводит к повышению риска бесплодия, спонтанных абортов и рождения детей с аномалиями развития. Кроме поражения репродуктивной системы, для этих факторов характерно токсическое влияние на нервную, иммунную, сердечно-сосудистую систему. Они также являются причиной развития иммунодефицита, центральных и периферических нарушений нервной системы, развития патологии органов желудочно-кишечного тракта. Некоторые исследования указывают на прямое участие диоксина и бензопирена в развитии онкологических заболеваний…» — считает Андрей Пешков, заслуженный эколог РФ (https://nashamoskovia.ru/news-14130.html).
По мнению известного биолога и редактора «Красной книги природы Москвы» Бориса Самойлова, масштабное применение в столичном регионе противогололёдных реагентов приводит к массовой гибели деревьев и кустарников — главной составляющей зелёных буферных зон, защищающих жителей от неблагоприятного воздействия постоянно возрастающего автомобильного трафика. «Автомобиль как источник техногенного воздействия имеет определенную зону поражения. Чем интенсивнее движение, тем зона поражения больше. Действуют два фактора – выхлопы и противогололедные реагенты. Все это поднимается в воздух, образуется взвесь, которая в виде эмульсии оседает на ветки. Хвоя за одну зиму покрывается соляной пленкой, которая ее сжигает… Это хлорсодержащие реагенты, губительные для всего живого. И если бы еще сыпали дозировано при экстремальных условиях, когда лед создает опасность. Вместо этого реагент сыплют на снег, он разжижается, автомобильными колёсами поднимается в воздух, травит все живое. Мы специально смотрели: когда на МКАДе ночью машины идут на больших скоростях, зона поражения вверх – до тридцати метров. В Кузьминском лесопарке, например, сосны все сожжены, березы все сожжены. Москва – единственный город, который сыпет эти противогололедные реагенты в таком количестве, нигде в мире такого нет…» (https://snob.ru/profile/28474/blog/91861).
Прямым следствием пагубной для столичного региона градостроительной политики, проводимой его руководством в лице Собянина и Воробьёва, стал резкий рост заболеваемости среди жителей Москвы и области.
«Именно экология послужила тому, что москвичи опережают все остальные города России по заболеваемости (аллергии, астма, всевозможные высыпания, болезни сердца и органов дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта). Кроме того, наблюдается высокий уровень смертности детей и пожилых людей, особенно в периоды повышенного смога. Причинами летального исхода становятся проблемы с системой кровообращения, злокачественные опухоли. Угарный газ и токсины от выхлопов машин проводят к развитию у местных жителей хронических отравлений вредными веществами. Иммунная система подвергается разрушению, как следствие — постоянные простудные и аллергические заболевания…»
Совершенно очевидно, что градостроительно-коммунальный рубеж противоэпидемической обороны Московской агломерации разделил печальную судьбу её медицинского и водно-лесопаркового рубежей. Масштабы и темпы его уничтожения поражают. Такое ощущение, что администрации Собянина и Воробьёва негласно соревнуются друг с другом в том, кто быстрее и беспощадней переуплотнит и перенаселит свои регионы, создаст больше новых мусорных свалок и установит самые опасные мусоросжигательные заводы, вырубит самые ценные природные территории и застроит водоохранные зоны, и т.п.
На месте города-сада, каким были Москва и область ещё лет тридцать назад, сегодня воздвигся настоящий город-ад, загазованный каменный мешок, где давно не живут, а с трудом выживают десятки миллионов наших граждан.
5. ПРОГНОЗЫ И ВЫВОДЫ
Более того: они предрекают даже более тяжёлые времена, чем раньше. Ведь ещё сто лет назад, к примеру, когда свирепствовала знаменитая «испанка» (до 100 млн. жертв), мы были не столь урбанизированы, как сегодня, а наша глобальная мобильность была на порядки скромнее.
Так, к началу 20 века, при нашей общей численности 1 млрд. 650 млн. человек, в городах проживало лишь 14 процентов населения планеты, а мегаполисов (т.е. городов-миллионников) было всего 17. На перемещения с одного континента на другой мы тратили месяцы и это требовало огромных усилий и средств.
Сегодня нас уже 7 млрд. 800 млн. человек, в городах проживает уже около 60 процентов земного населения, а число мегаполисов достигло 423, из которых 81 — с числом жителей свыше 5 млн. человек и 40 — свыше 10 млн. человек. На путешествия между континентами сегодня тратятся часы, их могут себе позволить миллиарды людей.
Плотность проживания выросла на порядки и в отдельных мегаполисах достигает 35 тысяч (!) человек на квадратный километр (Дакка, Бангладеш). По оценкам ООН, к 2030 году в городах будет проживать уже две трети человечества, причём наиболее высокий рост урбанизации показывают именно Азия, Африка и Латинская Америка , т.е. континенты с самым бедным и многочисленным населением, зачастую лишённым доступа к современной медицинской помощи, безопасным продуктам питания и элементарным средствам гигиены.
Именно здесь происходят бурные процессы т.н. «ложной урбанизации», т.е. урбанизации, при которой взрывной рост численности городского населения не сопровождается соответствующим ростом необходимой инфраструктуры, способной полноценно включить новых горожан в городскую социально-экономическую и культурную среду.
Её также называют «фавелизацией» — по примеру густонаселённых фавел бразильского Рио-де-Жанейро, где миллионы людей живут в крайне стеснённых условиях, изначально обрекающих их на чрезвычайные санитарно-эпидемиологические риски. Такая «ложная урбанизация» («фавелизация»), по факту, является широко раскрытыми воротами для вторжения в мегаполис любых инфекций — в том числе самых опасных и смертоносных (https://www.kommersant.ru/doc/3630399, http://www.brasileiro.ru/rio/slums/favela.html,
Создав глобальную сеть перенаселённых мегаполисов, обслуживающих систему глобальной капиталистической экономики и разделения труда, и связав их миллионами транспортных коммуникаций, человечество, по факту, создало идеальную среду для зарождения, развития и мгновенного распространения по планете бактериальных и вирусных инфекций. По сути, нашими общими усилиями построен и запущен глобальный конвейер по бесперебойному производству и распространению новейшего биологического оружия, контролировать который мы не в состоянии. Инфекции, зародившиеся на одном из китайских (вьетнамских, индийских, бангладешских, нигерийских, конголезских, бразильских и т.д.) рынков, уже через несколько часов способны распространиться на все континенты и атаковать любые страны, не считаясь с их позицией в мировой табели о рангах и уровнем жизни их населения https://newdaynews.ru/health/681653.html).
Как показал опыт короновирусной пандемии, главными жертвами этих атак становятся именно мегаполисы с их сверхплотной застройкой и населением, ослабленным плохой экологией. Именно здесь потери от эпидемий предсказуемо самые большие.
«Скученность, необходимость пользоваться лифтами и централизованная система вентиляции повышают опасность заражения. Об этом шла речь на видеоконференции, организованной по инициативе университета «Технион» в Хайфе. Участники конференции отметили, что самая серьезная опасность нависла над жильцами квартир в зданиях повышенной этажности. Если в таком доме произойдет вспышка заражения, то на повестку дня встанет изоляция всех жильцов. Участники конференции отметили связь между средним уровнем этажности и уровнем заболеваемости короновирусом в израильских городах. В условиях эпидемии каждый высотный жилой дом может стать «кораблем короновируса» — подобно круизному лайнеру «Diamond Princess». «Высотный дом — это тот же лайнер, только поставленный на попа, — считает эпидемиолог Шай Лин, профессор Хайфского университета. — Возможно, здания, где уровень заражения жильцов будет особенно высоким, придется закрыть на тотальный карантин». Специалисты убеждены в том, что централизованная вентиляция стала одним из факторов, способствовавших быстрому распространению коронавирусной инфекции на борту лайнера «Diamond Princess». Это мнение поддерживает и специалист по городскому планированию проф. Рахель Альтерман, ведущий научный сотрудник исследовательского института им. Неэмана в Хайфе. Она также напоминает о том, что большинство лифтов не приспособлены для эвакуации тяжелобольных — в них невозможно разместить носилки…» (https://www.vesty.co.il/main/article/SkqdjWyYU).
К аналогичным выводам пришли и отечественные эксперты. Так, в аналитической записке «Перспективы развития городской среды России и её адаптации к последствиям COVID-19», подготовленной специалистами РАНХиГС при Президенте РФ дана оценка последствий влияния пандемии на градостроительное развитие Российской Федерации. В ней подчёркивается, что пандемия COVID-19 продемонстрировала наличие серьезных рисков для устойчивости сложившейся в России системы расселения и территориальной организации экономики, основанных на концентрации населения в крупнейших городских агломерациях. Эксперты РАНХиГС рассматривают влияние пандемии на систему расселения на примере московской агломерации, ставшей эпицентром распространения короновирусной инфекции, ими даны рекомендации по значительному снижению плотности и высотности городской застройки. По их мнению, «увеличение высотности застройки снижает комфортность среды проживания и порождает проблемы с перегрузкой транспортной инфраструктуры. В период пандемии к этому добавились и риски более высокой скорости распространения инфекции из-за чрезмерной плотности проживания и невозможности обеспечить социальное дистанцирование…»
Эпидемическая угроза на глазах превращается в главный стратегический вызов нашего времени. Это вызов всему обществу и его государственным институтам. Государство обязано своевременно и адекватно на него реагировать и делать всё возможное для защиты своих граждан и снижения вероятных потерь — человеческих и материальных, не допуская фатальных последствий.
Как с этой задачей справлялось советское государство — мы знаем. Система противоэпидемической защиты населения, созданная в СССР, была рассчитана на самые худшие сценарии развития событий и потому обладала огромным запасом прочности, спасающим нас до сих пор.
Как с этой задачей справляется современное российское государство — мы тоже знаем, особенно на примере Москвы и Подмосковья. Вместо сохранения, укрепления и развития доставшегося нам от прошлых поколений уникального противоэпидемического наследия власти занимаются его коррупционной распродажей оптом и в розницу.
Вся т.н. «градостроительная политика» администраций Собянина и Воробьёва, активно поддерживаемая и поощряемая федеральным центром, давно свелась, как видим, лишь к банальному разграблению советской противоэпидемической защиты Москвы в интересах господствующих олигархических кланов, осуществляемая в формах агрессивной сверхплотной коммерческой застройки.
На наших глазах реализуется программа т.н. «ложной урбанизации» («фавелизации») столичного региона — и, как следствие, радикального понижения его противоэпидемического статуса, достигнутого в 20 веке.
Фактически, под лозунгами «Москва должна развиваться!» и «Область должна развиваться!» происходит санитарно-эпидемиологическое самоубийство крупнейшей городской агломерации России перед лицом начавшейся глобальной эпидемической войны.
Темпы и размах этого процесса не уменьшаются даже теперь, в период пандемии. Одной рукой гг. Собянин и Воробьёв «героически» борются с COVID-19, а другой продолжают упорно дербанить и добивать остатки советского противоэпидемического наследия.
Так, к примеру, в апреле 2020 года, когда все москвичи находились в режиме строгой «самоизоляции», мэрия экстренно провела т.н. «электронные общественные обсуждения проектов планировки реновируемых территорий» районов Москвы, представляющих для её застройщиков наибольший коммерческий интерес (районы Пресненский, Бутырский, Мещанский, Красносельский, Тимирязевский, Покровское-Стрешнево, Фили-Давыдково, Коптево, Очаково-Матвеевское, Северное Тушино, Черёмушки и др). Вместо реальных общественных обсуждений, в которых жители могли бы участвовать лично и ход которых могли хоть как-то контролировать, им подсунули наспех состряпанную компьютерную «голосовалку», результат которой всецело контролировался сотрудниками Департамента информационных технологий мэрии Москвы. И он, разумеется, оказался более чем предсказуем: жители якобы «горячо поддержали» проекты уничтожения своих зелёных и уютных кварталов и их застройку высотными монстрами, увеличивающими плотность населения в 3-5 раз
Не отстаёт от своих столичных коллег и губернаторская команда. 2 апреля 2020 года, т.е. на самом пике короновирусной эпидемии, губернатор Воробьёв подписывает постановление областного правительства №162/8, отменяющее главный природоохранный документ Подмосковья — «Объединённое решение Московского городского и Московского областного советов депутатов трудящихся «Об охране зелёных насаждений на территории резервных земель и лесопаркового защитного пояса гор. Москвы» от 13 февраля 1948 года
С его же подачи 30 апреля срочным онлайн (!) голосованием совета депутатов Одинцовского административного округа, также исключавшим всякое присутствие жителей, были утверждены новые Правила землепользования и застройки, разрешающие варварскую уплотнительную застройку ценнейших исторических ландшафтов Звенигорода, Барвихи и других городов и посёлков западного Подмосковья, а также 300 га охранных зон музея-усадьбы Архангельское. Попутно, как водится, было легализовано огромное количество незаконных строек и землеотводов явно коррупционного происхождения.
Особый цинизм данному документу придаёт то обстоятельство, что именно Одинцово сегодня является общероссийским рекордсменом по уплотнительной застройке: здесь на кв. километр территории уже приходится, в среднем, 7170 жителей — что, к примеру, существенно превышает показатели таких густонаселённых азиатских столиц, как Пекин (1323 чел. на кв. км) и Токио (6279 чел. на кв. км)
Отдельного упоминания заслуживает продукт совместного творчества гг. Собянина и Воробьёва — постановление мэра Москвы и губернатора Московской области №1705-ПП/970/44, которое разом отменило 5 (!) основополагающих советских нормативных актов, защищающих источники питьевого водоснабжения Москвы (в том числе уже упоминавшееся постановление СНК РСФСР «О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения» от 23 мая 1941 года) и открыло широкую дорогу для тотальной застройки их ещё не застроенных водоохранных зон
В новых поправках в Конституцию особое место занимает поправка о правопреемстве России советскому государству, предложенная лично Президентом РФ. С юридической точки зрения это означает, что, к примеру, наследие СССР, защищающее жизни и здоровье граждан, должно безусловно признаваться и уважаться современной российской государственностью.
Логичный вопрос: а как практически осуществляется правопреемство современной России в отношении советского противоэпидемического наследия — в частности, противоэпидемического комплекса Москвы и его важнейших компонентов: медицинского, водно-лесопаркового и градостроительно-коммунального?
Очевидный ответ: правопреемство осуществляется исключительно в формах его безудержного разграбления узкой группой высокопоставленных лиц и аффилированных с ними бизнес-структур, зачастую имеющих офшорную юрисдикцию.
Я думаю, что если б вожди Советского государства, при которых создавались и реализовывались Генпланы Москвы 1935 и 1971 года — Иосиф Сталин и Леонид Брежнев — вдруг воскресли и увидели, что вытворяют со столицей великой державы их сегодняшние российские «правопреемники», они бы без малейших колебаний отправили их под трибунал с формулировкой «за измену Родине».
И были бы абсолютно правы, кстати. Поскольку война предательства не прощает и скидок на всяческие «мы тут просто немножко украли, продали, а деньги перекинули в офшоры» никому не делает.
Продолжающееся коррупционное уничтожение противоэпидемического наследия СССР в условиях глобальной инфекционной угрозы, которую уже многие серьёзные специалисты считают началом новой мировой эпидемической войны, есть тягчайшее преступление против нашего народа, не имеющее оправданий.
ЭТО ДАЖЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЭТО — СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОШИБКА, масштаб последствий которой сейчас даже сложно предугадать. Мгновенное превращение российских мегаполисов в симбиоз чумного барака и братской могилы для миллионов их жителей — лишь одно из самых вероятных.
Государство должно быть государством, а не фейком или ширмой, прикрывающей лишь шкурные интересы кучки казнокрадов. Оно обязано исполнять свои функции, главная из которых — защита граждан России, их здоровья и жизни, и выстраивание такой системы национальной безопасности, которая бы ПРЕДВИДЕЛА И ПРЕДОТВРАЩАЛА возможные эпидемические атаки на страну, а не занималась бы в авральном режиме расхлёбыванием их последствий по принципу «государство вам ничего не должно!» и «врачи и волонтёры — вперёд!»
Президент РФ назвал кризис, вызванный пандемией, одним из самых масштабных, с которым ему довелось столкнуться. «Нам важно понять суть происходящего и выстроить систему защиты. Откуда это взялось — уже другой вопрос. Нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы» — заявил он 28 июня 2020 года в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия»
В связи с этим общество ждёт от федеральной власти скорейших мер, направленных на эффективную защиту нашего конституционного права на жизнь, а именно:
1. Разработки в рамках Федерального закона №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегии российского государства в условиях глобальной эпидемической угрозы, учитывающей самые неблагоприятные сценарии развития событий;
2. Пересмотра действующей пространственной модели развития страны, до сих предусматривающей сверхконцентрацию населения России в крупнейших городских агломерациях и делающей её предельно уязвимой для возможных эпидемических шоков (https://regnum.ru/news/polit/2210111.html);
3. Возвращения в актуальную повестку работы Правительства РФ проекта «Одноэтажная Россия («Свой дом на своей земле») 2009 года, инициатором которого выступил тогдашний премьер-министр РФ ПУТИН В.В. и подразумевавшим расселение мегаполисов и разворачивание инфраструктуры современных малоэтажных поселений, на порядок более устойчивых к эпидемическим рискам
4. Освобождения от занимаемых должностей и привлечения к ответственности руководителей, являющихся прямыми организаторами и соучастниками коррупционного разгрома комплекса противоэпидемической защиты столицы Российской федерации — города-героя Москвы.
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Владимир Николаевич Горлов – доктор исторических наук, профессор кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета (МГОУ). - прим. Автора
- Строительство и архитектура Москвы. 1984. № 11. С.10. - прим. Автора
- Строительство и архитектура Москвы. 1985. №9. С.22. - прим. Автора
- Чернышев С. Генеральный план реконструкции Москвы. М., 1937. С. 19. - прим. Автора